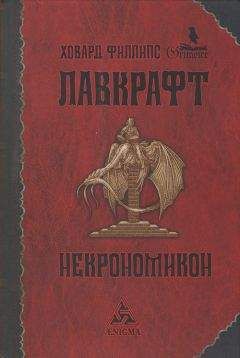Все эти модальности (modalités) дистанцирования выражают одну и ту же установку по отношению к языку эзотеризма: речь идет не более чем об инструменте — raw material (сырье), back cloth (театральный задник) — на службе специфической эстетической задачи (projet). Сверх того, Лавкрафт множество раз выражает, в письмах и в эссе, свое презрение ко всему тому, что касается спиритуализма (оккультизм, эзотеризм), и даже считает, более глубинно, религию источником обскурантизма и регресса.
Ясно в то же время, что его собственное мировоззрение — сциентическое, по своему типу соответствующее самым прогрессивным теориям его времени (теория относительности, квантовая теория) в области точных и естественных наук. Его убеждения недвусмысленно выражены в письмах и также переданы на литературном плане через использование специфической тематики, где наука играет важную роль. Лавкрафт, стало быть, писатель, весьма укорененный в своем времени, и он пристально следит за развитием знаний, вопреки взятой им позе эстета или английского джентльмена XVIII века, которая тоже, впрочем, выражается в его манере себя вести и в архаическом стиле некоторых его произведений.
Всё же дело продолжает обстоять таким образом, что Лавкрафт производит определенную выборку тем; что он не занимается тем литературным жанром, который, кажется, отвечал бы лучше его теоретическим и идеологическим посылкам и который развивался между тем в его время — научной фантастикой (science-fiction). Лавкрафт движется в этом направлении, но не без недоверия к тому, что называет с оттенком презрения: «Tales of interplanetary fiction» (рассказы межпланетно-художественной небыли). Хотя некоторые и пытаются причислить Лавкрафта к научной фантастике, трудновато согласиться огульно со всеми их доводами. Лавкрафт остается, по крайней мере на уровне стиля, в русле фантастического. Однако нужно подчеркнуть, что Лавкрафт, на протяжении почти всего своего писательского пути, относится с предпочтением к темам, образам речи, символам, которые, с одной стороны, связывают его с англосаксонской традицией, где показательные для нее писатели проявляют большой интерес к иррациональному[20]; и с другой стороны, свидетельствуют о завороженности, по крайней мере эстетической, перед этой областью.
В «Кромешных снах» ведьма Кизайя Мейсон владеет математической наукой, но она сохраняет принадлежности, гораздо более традиционные, даже шаблонные: ее физический облик дряхлой старухи, антураж, в котором она действует, и применяемые аксессуары, даже если математические формулы и занимают место формул магических. Некоторые специальные элементы усиливают архаическую доминанту и тоже соответствуют традиции, как ее описывает Маргарет Мюррей, которую Лавкрафт прежде читал:
присутствие «фамулуса», здесь некоей помеси, крысы с человеческим лицом;
присутствие «черного человека», атрибуты которого напоминают дьявола из легенд (даже если в конце концов он и отождествляется с Ньарлафотепом, одним из божеств лавкрафтианского пантеона);
присутствие типового обряда: жертвоприношение младенца, описанное с определенной точностью. Можно было бы добавить также представление о «дьявольской» сделке, которую студент Джилман должен скрепить собственной кровью… На самом деле, архаическая часть в развитии характера и интриги кажется по меньшей мере такой же важной, как и современные элементы трактовки.
Другой текст Лавкрафта, «Краски из космоса» (The Colour out of Space), иллюстрирует эту двойственную трактовку. Речь идет, по-видимому, о новелле в жанре научной фантастики: с неба падает метеорит и вызывает в растениях, животных, как и в людях, чудовищные мутации. Но тематические и стилистические двусмысленности новеллы изменяют этот подход. С самого начала способ подачи пейзажа сигнализирует об этом изменении: «привкус нереальности и жутковатой нелепости», «слишком было похоже на пейзаж Сальватора Розы», «слишком похоже на какую-то заповедную гравюру по дереву в страшном рассказе». Даже сама природа метеорита не определяется ясно, и использованные парафразы двусмысленны: «причудливый гость из неведомых звездных далей», «каменный звездный посланник».
Опыты, произведенные над метеоритом, порождают ощущение не только полной чуждости, но и своего рода воли, чуть ли не человеческой: «упрямо отказывался остывать». Вывод, что «оно никак не с этой земли, а кусок великого запредела; и как таковое наделено запредельными свойствами и послушное запредельным законам»[21].
Действительно, метеорит оказывается материей живой, а не косной, своего рода вампиром-посредником между минералом и животным, который всасывает физическую жизненную энергию, но действует и на психику человека, как об этом свидетельствует одна из жертв: «оно жило в колодце… сосало жизнь из всего и вся… оно отшибает у тя разумение, и тут ты попался, оно тя пережигает»[22]. Отметим, что эта двойственная природа и даст пищу мифам и легендам, которые сложатся вокруг этого феномена. Рассказчик занимает рационалистическую позицию, позицию также и Лавкрафта, по поводу происхождения мифов: «быстро складывалось целое основание для цикла изустных легенд». Лавкрафт, некоторым образом, деконструирует фантастическое начало, конкретно разъясняя объективные причины явления, но, параллельно, высокометафорический стиль, отягощенный антропоморфными коннотациями, порождает чувство реальности, которую едва можно помыслить и которая превосходит, при всех случаях дела, человеческое знание и понимание.
В силу того что он заметает следы, множит истинные и подложные референции на внетекстуальное знание, Лавкрафт в конце концов дает двусмысленный и парадоксальный образ себя самого и своего творчества. Эволюция его художественно-литературных идей идет параллельно эволюции его мыслей в идеологической области, как это было продемонстрировано многими критиками. По своему складу мысли в целом Лавкрафт рационалист, релятивист и детерминист. С другой стороны, если Лавкрафт и отходит постепенно от определенных стереотипов эзотеризма, его собственная мифология параллельно утверждается как основание всего творчества, излюбленная форма выражения творческого процесса, как если бы писатель пытался осуществить синтез материалистической и сциентической мысли и видения Вселенной, которое отчасти восстанавливает основы великих мифов творения. Это так, как если бы Фантастическое с большой буквы с необходимостью проходило через постановку вопроса знания и, чаще всего, через погружение в археологические пучины, соответствующее также восхождению во времени.