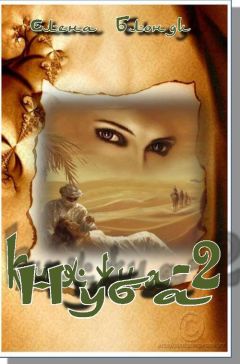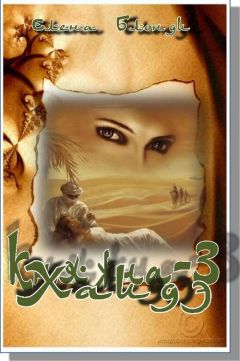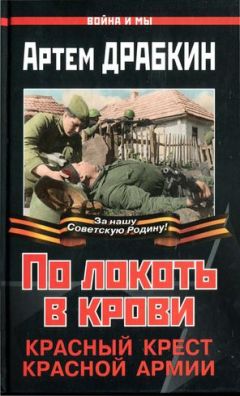— Скажи мне, годоя, сколько овец дадут колдуны острова за мальчика?
Замолчав, сморщился в ужасе. Он выдал себя, проговорил мысль вместо приготовленного вопроса! И остолбенел, услышав ответ на непроговоренное:
— Годоя говорит, он останется в человеке.
— Но я…
— В человеке. Которого ты спас, чтоб он служил тебе и ночной птице Гоиро.
Ошеломленный, Карума не заметил, как изменился голос годои, произносящий последний ответ. Он не знал, что загнанный в угол своего сознания Нуба, сидящий там, закрывая лицо большими ладонями, вдруг почувствовал на них маленькие руки. Смеясь, девочка отвела руки своего раба от его лица и, заглядывая ему в глаза, сказала с упреком:
— Ты решил бросить меня и уйти в смерть? Какой же ты после этого мой Нуба? А еще ты обещал мне стеклянных рыб.
Нуба смотрел на круглое лицо, веселое и немного расстроенное — она верила ему и все равно немного боялась — вдруг он уйдет, уйдет совсем. И поймав взгляд черного раба, девочка перестала улыбаться. Серьезное лицо за мгновение повзрослело, и Нуба увидел женщину, ни разу не виденную им наяву. Скулы стали резче, глаза холоднее и тверже, а в уголках рта появились еле заметные складочки, будто тень тысяч улыбок на подкладке из горестных мыслей и тайных слез. Русые волосы с золотым блеском уложены вокруг головы, а поверх — витая диадема тяжелого золота, с вкрапленными в нее красными и розовыми камнями. И на висках покачиваются две подвески — круглые рыбы мутного стекла с радужным блеском.
«Вот какая ты стала, Хаи. Вот какая ты сейчас».
И третий ответ старик получил не от годои, который смолк, задавленный волей пленника, черпающего силу во взгляде молодой женщины, протянутом через полмира в его сознание.
— Останется в человеке, — повторил голос.
Старик, отступая, закивал, помахивая перед собой сложенными щепотью пальцами: трогал ими лоб, раскрывал ладони в чуть светлеющее небо, кланялся, нащупывая ногой тропинку между колючих кустов. И повернувшись, исчез, забыв накинуть на спокойное лицо сидящего кожаный мешок.
Нуба смотрел перед собой, не видя, как небо становится розовым, и на фоне света сперва чернеют, а потом наливаются костяным блеском сухие ветки. Как наискось вдалеке в прорехах кустарника мелькают плавные стада антилоп. И следом движутся, покачивая длинными шеями, пятнистые жирафы. Птицы, сверкая красной и белой подкладкой крыльев, гомоня, пронеслись над самой травой и прыснули в кроны деревьев, расселись, помахивая яркими хвостами. А он смотрел в глаза Хаидэ, ждал. И она сказала, поправляя подвеску:
— Вот и хорошо, Нуба, а то ты меня напугал. Ты мне нужен, но ты далеко. Возвращайся. А я попрошу у тебя прощения, за то, что позволила уйти. Я проснулась, Нуба. И теперь уже никогда не вернусь туда, в сон бездействия.
— Никогда не вернусь.
Голос был мальчишеским, ломким и в нем дрожала обида. Верхушки кустов перед глазами пленника растаяли, размываясь на фоне яркой желтой степи, и он увидел перед собой лицо Маура. Тот сидел на корточках напротив, запахнув линялый плащ и воткнув в землю тонкое детское копье, кусал дрожащие губы.
— Потому что она сказала, раз я ушел к папе Каруме, то пусть он и берет меня в свою семью, а ей некогда и у нее хозяйство. И выгнала меня. Я даже не взял вещей, а у меня там хороший щит, я его делал семь дней, сам сушил кожу и натягивал. И рисовал. Велела овец привести, к полной луне. И сказала…
Мальчик опустил голову, помолчал и закончил шепотом:
— Сказала, папа Карума заплатил за меня. Дал ей телушку, хоть и худую, но за меня разве дадут больше.
Нуба медленно возвращался из своих мыслей к поляне под старой акацией. Он помнил, о чем спрашивал старик, но ответы годои уплывали из головы, как туман — не ухватить рукой. Да и к чему, он все равно скоро уйдет отсюда. Он все еще не верил в случившееся. Хаидэ говорила с ним, позвала и ждет. Сидя под деревом, не замечая боли в напряженной спине, он ощупывал эту мысль руками, поворачивал ее, разглядывая на свету. Его Хаидэ ждет!
Накрытый радостью, напряг мышцы — вскочить и заплясать так, как прыгал когда-то на вечернем прибое, для радости девочки, закутанной в старый плащ. И — не смог. По-прежнему спокойное лицо и глаза, замечающие мальчика только тогда, когда он оказывался напротив его взгляда. Тревога плеснула в мозг и забилась, как кровь в перетянутой повязкой ране. Что сделал с ним старик, согнувшись в ночной темноте, что шептал, говоря с годоей? Еще два дня назад он мог одним напряжением шеи порвать ремень, притягивающий голову к стволу. А сейчас — сидит истуканом, не в силах повернуть голову и повести глазами.
— Что с тобой, человек годои? — Маур насторожился и, приподнявшись, уставился в неподвижное лицо, — ты не хочешь говорить со мной? Потому что я выгнанный из семьи?
Широкое лицо Нубы покрылось каплями пота. Он силился сказать, но губы не двинулись и только тихий стон раздался, как гудение пчелы за сомкнутыми зубами.
Маур прислушался и выставил перед собой руку:
— Не надо! Это птица Гоиро запечатала твой рот. Не говори. Все равно слова не придут. Ты провинился? Что-то сделал не так? Хочешь, я спрошу папу Каруму?
И глядя, как скатываются с лица капли пота, добавил поспешно:
— Я не буду. Не буду спрашивать. Как жалко. Я думал, раз уж я тут надолго, мы с тобой сможем много говорить. Ты сиди, мне надо идти. Я попробую выведать у папы Карумы, что с тобой случилось. И вернусь ночью.
Черный силуэт исчезал за переплетением веток, а Нуба сидел неподвижно, пряча за окаменевшим лицом мысли, бросающиеся из стороны в сторону. Нетерпение его было таким сильным, что казалось, его разорвет изнутри, если немедленно не сумеет освободиться и побежать через волны ложащихся под ветер трав, оставляя позади деревню, огромное озеро-море с брошенным посередине островом из черных скал, лабиринты тропинок меж лавовых валунов, окруженных колючим кустарником, и стадо папы Карумы. Оставляя мальчика с детским копьем, которого продала тетка за худую телку, безжалостно сказав ему об этом.
Нуба знал, что волки нетерпения способны загнать до смерти любую разумную мысль, и потому победить нетерпение разумом не всегда удается. Он не мог сейчас думать, обрывки мыслей в голове крутились клубком обезумевших ос, но там, за ними стояла стена, возведенная из выученного когда-то. Есть вещи, которые ты должен вывести из своего разума, говорил ему старый учитель, несокрушимые есть вещи-камни, из которых ты сложишь стену, и стена выдержит любые бури. Будь осторожен, не положи туда ложный камень, иначе лишишься способности принимать гибкие решения. Но выбирая несокрушимые, приноси их к стене. Она сдержит бури в твоей голове и не даст тебе обезуметь.