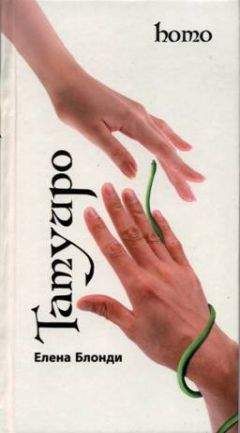Он видел кадры! Вот же, вот!
Голова регулировщика над крышами автомобилей, он будто тонет в металлической реке с выражением лица человека, не успевшего додумать очень длинную мысль.
Крошечная девочка в оранжевой куртке на фоне киоска с мороженым ест эскимо. А на киоске нарисовано то же эскимо размером в два раз поболе девочки – с глазами и раззявленным ртом, – того и гляди, само ее съест.
Две бабки на остановке склонились над раскрытой сумкой и хвастаются покупками, – одна растянула на ладонях белоснежные трусы великанского размера, другая щупает их с интересом и уважением.
Витька дернулся от охотничьего азарта. Махнул рукой в легком отчаянии – эх, балда лопоухая, что ж пошел без камеры! И, одновременно с острой болью в икре, вдруг остановился, хватаясь за воздух растопыренными пальцами.
Кадры-кадры-кадры обступали со всех сторон. Вселенная перестроилась и обрушила на него бесконечное множество составляющих. Заключенные в невидимые рамки, снимки перетекали один в другой, плыли, скакали, выстраивались и кидались в глаза, чтобы тут же, отпрянув, показать перспективу, поймать рамкой кусок неба с искрой самолета, набухшее водянкой колено тучи, что присела на высотку, неожиданное дерево, альпинистом торчащее на далекой недостроенной крыше.
Витька шел, не успевая за миром. Взглядывая вниз, отводил глаза, боясь утонуть в рассыпанном под ногами великолепии – ржавый лист прилип к мокрому асфальту рядом с окурком в алой помаде, нежная щетинка юной и глупой травы, которую вытянуло за вихры из-под бордюра осеннее солнце; иглой сверкнувший осколок зеленого стекла, отбросивший кисейную тень на сонную бабочку…
И тогда он засмеялся. Пошел дальше, – быстро, уже не боясь, открывая глаза широко, чтобы больше съесть, вобрать, выпить и – опьянеть от увиденного. Какая разница, есть у него сейчас фотоаппарат или нет! Он – видит! А всех снимков все равно не переделать. Пусть живут и летают.
В ботаническом саду ходил долго и медленно. Задирал голову, смотрел на старую кору больших деревьев. На гроздья разноцветных листьев, отягощенные недавним дождем. Останавливался на дорожках и смотрел вдаль, очарованный плавной сменой кадров. Вот пустая дорожка, только цветные листья на разном расстоянии от него пальцами и ладонями свисают из-за границ кадра, и глаз перебирается по ним вдаль, как по камням в воде – с одного на другой. А вот вдалеке – парочка стариков. Зонтик-трость у него, собачий поводок у нее. Старик длинный, худой, сгорбленный, старушка маленькая и круглая. И такса – хвост саблей – боевая, упругая, яркое пятно на фоне черных силуэтов. А вот, когда пенсионеры подошли ближе, вдалеке за ними силуэтом – парочка обнявшись.
Левый нижний угол – крупным планом два старых лица в морщинах, а далеко, ох, как же далеко от них нынешних, справа вверху – тонкие, слившиеся, на четырех рядом идущих молодых ногах…
Витька свернул на тропинку и пошел вглубь парка. Голуби, взлетая, чертили в воздухе невидимые плоскости, изредка дрожал большой лист, уронив тяжелую каплю. Он осторожно обошел сидящую на корточках девочку, не отрывая глаз от черных рассыпанных по плечам прядей и от белой ладошки, выступаюшей на кадре из-под глянцевого веера волос, на фоне крупных сероватых зерен. Девочка рисовала веточкой на песке.
За черными кривыми стволами сверкнула фольгой вода. Уже осенняя, потому и блестит тяжело, без прозрачности.
Вышел к небольшому озерцу, аккуратно заключенному в берега из камня-дикаря. Тропки, что пробрались между камней, походили на змеек, окунувших головы в воду. Деревья, не решаясь подступить ближе, свешивали руки с множеством темных пальцев, глядя на змей и на воду.
Посреди водоема на островке стоял домик-хижина. Нарочито старый, под тростниковой крышей. Грубая деревянная дверь – чуть приоткрыта. Черная полоса нутра режет глаз бархатной лентой.
От Витькиных ног, продолжая тропинку, в воде – плоские камни на расстоянии шага друг от друга – туда, к хижине, к приоткрытой двери. Витька засмотрелся на первый камень, любуясь тонкими тенями, проложенными аккуратно вдоль каждого уступчика на поверхности, глядя на густеющую прозрачность, что утягивала взгляд в глубину, вдоль каменной грани.
За спиной прочирикала птица, что-то спросив. И, вплетаясь в вопрос, – скрип плашмя лег на спокойную воду.
Витька оторвал взгляд от мокрых камней, с усилием, как полоску липкой ленты. И увидел, дверь в хижину распахнута.
Внутри – чернота. Взгляд падал внутрь и барахтался, не в силах выбраться обратно. Хоть что-то разглядеть бы! …Вот! В пол удара сердца он успел увидеть подошву кроссовка – кто-то вошел. Входил, продолжая движение, разбивая иллюзию плотности, превращая ее в темную пустоту, наполненную присутствием человека.
Сжал кулаки, чувствуя, как ногти кусают мякоть ладоней. В голове всплыло Степкино ликующее «кадррр дня!!!». Да, это был бы настоящий кадр дня. Может быть, даже недели. Или всей его карьеры.
Рамки в рамках. Квадратная рамка снимка, в которую заключена неровно-округлая рама озера, в которой – черный прямоугольник проема, что служит рамой для незримого живого, там, в сердце пустоты – сгусток человеческого тепла. И маленький кусочек светлой подошвы – движение в тихой осенней неподвижности – доказательство наполненности черного нутра.
Но камеры не было. И он, вздохнув, снял сердцем и памятью глаз. Мельком подумал о том, что, вспоминая увиденное, будет одновременно слышать этот вопрос птицы, скрип дерева над водой и чувствовать чайный запах намокшей привяленной листвы.
Подошва исчезла. Кто-то, войдя, а как он вошел так незаметно? Или с другой стороны есть еще дорожка из камней, а Витька так засмотрелся на воду, что и не увидел, как человек обошел хижину и открыл дверь? И этот кто-то, войдя, остался там.
Витька стоял, пытаясь увидеть. Снова что-то спросила птица. Мягко захлопали крылья голубей за спиной. Звуки вращались, приближаясь и удаляясь – детский крик далеко-далеко, смех чуть ближе, скрип песка на соседней тропке за деревом – рядом совсем.
От напряжения заныла шея и даже уши. Он разжал кулаки и перевел дыхание. Перетоптался, становясь поудобнее. Решил дождаться появления человека из домика. Что там можно делать? Ведь не пописать же он туда нырнул, посреди людного парка, и даже дверей не прикрыв за собой?
Минуты ползли улитками. Даже, кажется, останавливались передохнуть.
А глаз уже шагал с камня на камень, приглашая ноги. А что? Вдруг он только подошел и не знает, что в хижине уже кто-то есть? Гулял, захотел пройтись по воде, к островку! Имеет право!
Он ступил на первый камень. Тенькнула, оторвавшись, последняя минута ожидания, отпустила, осталась на берегу обрывком резиновой нити. И потекло быстрое время. Плавное, осторожное, охотничье.