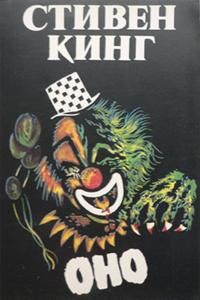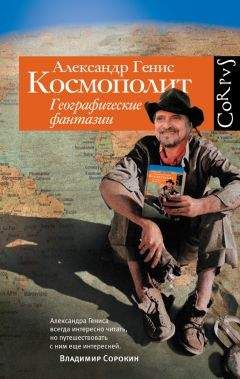— Билл знает, что делать, — заключил Бен, как бы призывая в союзники Эдди и Беверли. — Могу спорить на любую сумму.
— Ладно, — произнес Стэн, поочередно оглядев ребят. — Ладно. Давайте скажем Биллу, если вам хочется. Но на этом все закончится — во всяком случае для меня. Пусть я буду в ваших глазах трусом, желторотиком — неважно. Я не думаю, что струсил. Просто то, что произошло…
— Если бы тебя такое не напугало, значит ты просто безумец, Стэн. — прервала его Беверли.
— Нет слов, я был напуган, но не в этом дело, — горячо возразил Стэн. — Я не то хочу сказать. Разве вы не видите…
Ребята выжидательно воззрились на него и, встретив три пары глаз, горящих желанием услышать его объяснение, Стэн понял, что не сможет толково объяснить, что происходит в его душе. Слов не хватало. Внутри спрессовалось что-то неясное, и выразить это было свыше его сил. В конце концов, ему было всего одиннадцать…
А хотелось ему сказать, что есть вещи пострашнее страха. Можно испугаться автомобиля, неосторожно вильнув на велосипеде. Можно бояться полиомиэлита. Можно дрожать от страха, когда читаешь про этого сумасшедшего Хрущева, и испугаться утонуть, когда уходишь в воду с головой. Можно бояться любой из этих вещей, и все это будет объяснимо, понятно.
Но то, что произошло в башне… Ему хотелось объяснить ребятам, что утопленники, спускавшиеся, хлюпая, по ступеням, сделали нечто худшее, нежели просто напугали Стэна: они осквернили его.
Да, осквернили — единственное, что ему приходит в голову. Хотя если он выскажет это вслух, они начнут смеяться. Тем не менее там произошло то, чего не могло быть. Это нарушало принятый порядок вещей, главную идею, что Бог создал землю и заставил ее вращаться вокруг своей оси, создал смену дня и ночи, сутки из двадцати четырех часов, иглу эскимосов и все такое прочее. И Он сказал: «Если ты разгадаешь природу вещей, то ты разгадаешь дьявола в любом обличье. Ты сможешь объяснить и вес света, и допплеровский эффект, и что преодоление самолетом звукового барьера — не хлопок ангелов в ладоши и не пуканье демонов. Я задал тебе нестандартную задачу и теперь сяду, незримый, и буду наблюдать, как ты с ней справляешься. Мне нечего добавить кроме того, что дважды два — четыре, на небе сверкают звезды, и взрослые должны видеть кровь, когда ее замечают дети, а покойники обязаны оставаться покойниками».
«Можно жить в страхе, — думал Стэн, не говоря вслух, — не вечно, но долго. И пусть этот страх нарушает ритм жизни, привычный образ мышления. Но тогда надо признать, что существует и преисподняя. И там живут существа с немигающими желтыми глазами, и из мрака несет смрадом, и там, может быть, целая вселенная с квадратными лунами на небе, со звездами, от смеха которых веет холодом, с четырех- и пятисторонними треугольниками. И там растут поющие розы. И во все можно поверить», — так сказал бы им Стэн, если б мог.
«Идите к священнику и слушайте его рассказы о том, как Иисус ходил по воде. Но когда ЭТО увижу я — я закричу. Потому что для меня это не чудо, это — ОСКОРБЛЕНИЕ».
Этого нельзя было произнести вслух, потому он заключил:
— Не в испуге дело. Просто я хочу чувствовать себя нормальным человеком.
— Но ты, по крайней мере, расскажешь ему? — настаивала Бев. — Выслушаешь его мнение?
— Конечно, — рассмеялся Стэн. — Наверно, надо прихватить с собой определитель.
Наступила разрядка.
Беверли рассталась с мальчиками у дверей прачечной и в одиночестве вернулась с тряпками домой. Квартира была пуста. Бев сунула тряпки на место и закрыла шкаф. Вставая, бросила взгляд на ванную.
«Не пойду туда, — подумала она, — лучше посмотрю телевизор».
Включив телевизор в гостиной, она вскоре погасила экран, потому что на нем Дик Кларк показывал, как отмывать сильно замасленную посуду. («Если вы не уверены, что добьетесь этого горячей водой с мылом, — говорил Дик, держа тарелку перед глазком камеры так, чтобы видели все подростки Америки, — то смотрите сюда»).
Реклама нового моющего средства ее лично мало волновала, и Бев прошла на кухню к шкафу, где Эл Марш хранил ящик с инструментами. Выудив из него складную рулетку с желтыми делениями дюймов, Бев решительно направилась в ванную.
Ванная сияла чистотой. С улицы слабо доносились призывы миссис Дойон к Джиму «немедленно уйти с проезжей части».
Бев подошла к раковине и заглянула в черный зрачок. Неподвижная, всматриваясь во мрак, она стояла до тех пор, пока не почувствовала, что ноги в джинсах превратились в холодный мрамор, что соски на груди готовы прорвать ткань блузки, а губы стали совсем сухими. Бев ждала голосов.
Их, однако, не было. Глубоко вздохнув, Бев просунула сталь рулетки в решетку. Со стороны это походило на плавное движение шпагоглотателя, погружавшего шпагу в пищевод на праздничном представлении. Шесть дюймов, восемь, десять… стоп. Бев предположила, что уперлась в колено трубы. Пошуровав рулеткой, она нащупала дырку, и лента пошла свободней. 16 дюймов, 2 фута, 3… Бев следила, как одно за другим соскальзывают в темноту желтые деления. Воображение подсказывало девочке, как на своем пути рулетка цепляется за грязные края, за накипь и ржавчину трубы. Вот уж поистине гнилое место, куда никогда не проникает солнечный свет и где вечная ночь.
Она представила себе, как конец ленты размером не больше ногтя все глубже погружается во мрак и думала, зачем она это делает. Бев прислушивалась к внутреннему голосу… но так и не смогла ответить самой себе на этот безмолвный вопрос.
Вот конец рулетки достиг подвала, дошел до упора в трубе… и Бев ощутила, как лента застопорилась.
Она вновь пошуровала ею, и лента послушно заскользила дальше. Бев даже вообразила себе мелодичный звон, с которым кончик рулетки скользнул в дырку. 6 футов, 7, 9…
И вдруг рулетка стала развертываться самостоятельно, без участия Бев, как если бы ее кто-то схватил на противоположном конце и побежал — как с эстафетной палочкой! Бев беспомощно уставилась на выскальзывающую ленту с округлившимися глазами и раскрытым, как буква «о», ртом. Она ужаснулась, но не удивилась. Кто знает, может она и ожидала чего-либо в этом роде.
Скольжение прекратилось. 18 футов — 6 ярдов. В раковине зачавкало; из темноты донесся шепот: