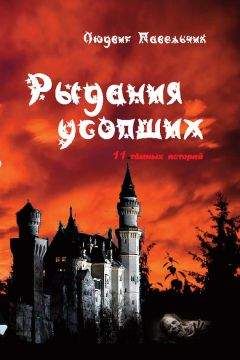Хегле посмотрел куда-то вдаль и, встрепенувшись, сообщил:
Заболтались мы с тобой, Ульф. Вон уже кого-то за нами послали. Надо идти.
Я буду представлен Графу?
«Пусть только попадется мне на глаза этот тиран!»
Нет. Графине. Но не сейчас, а позже, при посвящении.
Каком посвящении?
Все узнаешь в свое время.
Как ни силился, я не мог избавиться от ощущения искусственности всего происходящего. Ни оттенок торжественности в тоне странного Хегле, ни мрачные, суровой ткани балахоны на приблизившихся к нам двух бородачах, церемонно поздравивших меня с прибытием в Графство, не могли убедить меня в реальности событий, в которых я волею судьбы принимал участие. Впрочем, сама местность уже не казалась мне странной – каких только ландшафтов не создала природа на европейском севере – от песчаных дюн до дремучих непроходимых лесов, от равнин, пересекаемых гонимыми ветром беспокойными перекати-поле, до тихих, ласкающих слух мерным шепотом волн заводей. Посему не приходилось удивляться тому, что здесь, чуть в стороне от нашего поселка (далеко меня утащить не могли), я не нахожу привычных колючек, а скалы кажутся мне незнакомыми. Единственно, что было мне непонятно – зачем эти люди устроили весь этот спектакль? Зачем нужна им эта – не очень умная – игра в Графство со всеми ее атрибутами, и как удалось им, наконец, так распланировать территорию, что я, продвигаясь, как мне казалось, в прямом направлении, незаметно для себя сделал разворот и вернулся туда же, откуда вышел, вернее, выбежал?
Затем мне пришла в голову простая, но настораживающая мысль – уж не на территории ли какой-то лечебницы для психически больных я нахожусь? Это, конечно, объяснило бы все, хотя и означало бы дополнительные трудности. Впрочем, если это так, то самое разумное сейчас – помалкивать и делать вид, что всему веришь и со всем соглашаешься, иначе… О буйном нраве некоторых психических я был наслышан.
VIII
Еще издали я заметил башни графского замка, возвышающегося на центральной площади самого странного города из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Угловатые, большей часть сложенные из гранита или серого мрамора невысокие строения объединялись в сектора, отделенные друг от друга прямыми, посыпанными гравием улицами, по обочинам которых располагались в изобилии странного вида скульптуры и скамьи для отдыха, частично занятые вкушающими приятности городской идиллии группками людей. Некоторые из сидящих оборачивались и провожали нас глазами, но большинство не выказывало никакого любопытства к моей персоне, продолжая свои неспешные беседы. Одежда этих людей удивила меня – старомодные, расшитые кружевами камзолы и завитые, ниспадающие на плечи парики одних поразительно контрастировали с простым, неброским платьем их собеседников, едва прикрывающим срам и говорящим, несомненно, о незавидном социальном положении последних. При первом взгляде на этих людей можно было бы подумать, что видишь перед собою господ, окруженных угодливыми слугами, но свобода осанки и дружеская раскованность, с которой попроще одетые люди общались со своими «богатыми» приятелями, свидетельствовали о том, что в этом странном Графстве и впрямь все равны.
Эй, Хегле! А что же это они так по-разному одеты? Мне казалось, что при всеобщем равенстве не должно быть такой несправедливости!
Где ты видишь несправедливость? откликнулся мой провожатый. – Одежда эта, как бы тебе сказать… пережиток прошлого, что ли… На отношениях между горожанами их наряд никак не сказывается.
Понятно.
На самом деле, ничего мне понятно не было, и я все больше и больше запутывался, переставая порою верить собственным органам восприятия. Но именно в тот момент я засмотрелся на какого-то бедно одетого, тощего рыбака, с азартом припавшего к сахарным устам некой расфуфыренной госпожи и норовящего проникнуть своей заскорузлой ручищей в ее глубокое декольте, и мне стало не до Хегле и его объяснений. Мы шли все дальше, и рыбак с его высокородной зазнобой остались за поворотом. Вместо средневеково наряженных «страусов», как я их про себя окрестил, на улице стали все чаще появляться более современно одетые люди, и мало-помалу я перестал чувствовать себя словно в театральной гримерной. Впрочем, и эти, более близкие мне по своей внешности горожане ни чем особенным не занимались, переходя от здания к зданию или же просто рассевшись на одной из многочисленных скамеек, большей частью установленных в тени развесистых деревьев.
Что изменилось? Куда подевались камзолы и рюшки? поинтересовался я вновь, хотя и давал себе зарок ни о чем больше не спрашивать водящих меня за нос клоунов.
На сей раз мне ответил один из людей в балахоне, которых Хегле именовал графской челядью:
Город наш довольно своеобразный… Сектора его строились в очень разные отрезки истории, и обитатели предпочитают придерживаться духа того времени, когда был создан их сектор, только и всего. Разумеется, они вольны передвигаться, как им вздумается, но не удаляются, как правило, из своего района… Есть у нас, к примеру, сектор, жители которого просто… оборваны и вовсе не имеют имени, так что ж им, простите, за удовольствие показываться на глаза респектабельным горожанам?
Как это – люди без имени? Почему?
Ну… имена их не были внесены в городскую регистрационную книгу, и никто их не знает. Вообще, знания у нас – не самый ходовой товар, не очень понятно закончил человек в балахоне свое скрипучее объяснение и не вымолвил больше ни слова.
Я не переставал удивляться тому, что видел. Детей, по большей части разодетых в пух и прах, на улицах хватало – они чинно восседали подле своих мамаш или же вяло резвились у порогов своих домов – а вот молодежи было значительно меньше, и представлена она была в основном пареньками в рыбацких куртках – наподобие той, что была на Хегле – да бледными тощими девицами болезненного вида, томно вздыхающими и то и дело поглядывающими на небо, словно надеясь увидеть там ангела. Это именно про них пишут в романах о неразделенной любви и обманутых надеждах, именно эти девицы по любому поводу впадают в «нервную горячку» и терзают близких заявлениями о своей скорой кончине, сжимая в побелевших пальцах прощальную записку от неверного возлюбленного, до тошноты объевшегося их гонора и театральности.
На головах многих людей я заметил такие же точно венки, как и на Хегле. Каждый венок был ловко подогнан по размеру головы, словно кто-то очень серьезно занимался этим делом, придавая ему большое значение. Должно быть, этот головной убор был весьма популярен среди горожан, но все же большая часть публики вместо венка носила повязанную вокруг лба ленточку из блестящей ткани, которая, впрочем, смотрелась тоже довольно-таки необычно. Я обратил внимание на то, что молодые люди, как правило, предпочитали венки, тогда как старики почти все поголовно украшали себя ленточками, хотя бывали и исключения. Среди ребятишек хватало и того, и другого, и я поинтересовался у Хегле, чем вызвано такое различие вкусов и зачем вообще цеплять себе что-то на голову?