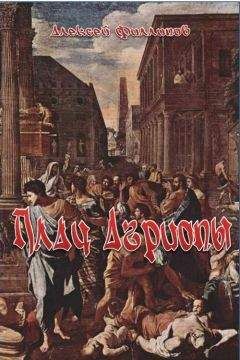Он улёгся на диван, прислонив мушкет к старому пузатому телевизору, что стоял напротив на полированной тумбе. Почему-то — один на один в комнате с серебряной змеёй — он не решился выключить свет. Свет исходил от большой трёхрожковой люстры. На этой покупке давным-давно настояла Еленка, ненавидевшая темноту. Свет был ярок и, словно зануда-учитель, повторял управдому, что времена средневековья давно закончились. Мушкет, в электрическом свете, казался лишённым своей странной магии. Засыпая, Павел кивнул ему, как старому знакомому, и пробормотал дурашливо:
- Ты чей? Ты за красных или за белых?
* * *
Человек сидел на грубом табурете, опирался локтями о чёрный, словно прокопчённый, стол. Широкими ладонями он сжимал голову. Человек то едва слышно плакал, то по-звериному подвывал. Стол перед ним был уставлен глиняными чашами разных форм и размеров — чаще всего встречались кособокие и кривые, вылепленные кое-как. В каждой белело молоко. Не было похоже, чтобы молоком лакомился хоть кто-то в этом доме — в чашах плавали в избытке дохлые пауки. Некоторые из них, вероятно, захлебнулись уже давно — чернели неподвижными кляксами на белом, поджав лапы или, наоборот, раскинув в стороны — в зависимости от того, смирились ли со смертью быстро, или до последнего мгновения цеплялись за жизнь. Хватало и живых, будораживших молочную гладь судорожными ужимками. Некоторые выбирались из западни на дрожащих конечностях и ползали по столу, оставляя за собою едва заметный, быстро высыхающий, след.
Чаши стояли не только на столе, но и в углах комнаты, на крышках двух больших кованых сундуков, в изголовье и изножии широкой кровати, у камина, в котором чадил, несмотря на жару, уголь. Вперемежку с чашами — в куда как меньшем количестве — комнату заполняли склянки духов. Каждая — словно соперничая с соседкой в забористости — благоухала невыносимо пряно. И всё-таки эти творения парфюмера не могли победить другие ароматы жилища. Воняло гнилой древесиной половиц и потолочных балок. Сладко пахло сеном, рассыпанным по полу. Кислым угаром несло от камина. Смердело смертью.
Человека, сидевшего за столом, не волновали пауки в молоке. Не волновала его и невообразимая сумятица запахов. Комната не проветривалась без малого неделю — человек, всё ещё остававшийся её хозяином, сам заклеивал оконные и дверные щели навощённой бумагой, по совету клювастого доктора в птичьей маске. Он был не из пугливых — этот человек, в добротной куртке котарди, хорошо скроенных ботинках и чулках-шоссах из прочного сукна. Он был не из бедняков, хотя и богачом вовсе не был. И он не положился всецело на божью волю, как советовал духовник, сам покинувший этот бренный мир ещё три дня назад.
Человек мало что знал о чёрной смерти. Потому, когда его жена, вернувшись после церковной службы, пожаловалась на жар, он уложил её в постель и отправился на поиски доктора. Хорошие доктора давно покинули город. Городской совет угрожал лишить беглецов права пользовать больных, а значит, и заработка, но это была жалкая угроза; она не удержала никого. Те, кому было, куда бежать, собирались в путь под покровом ночи и уезжали прочь на пустых повозках, налегке. Богатые дома стояли с распахнутыми дверями; драгоценности, прекрасные гобелены, венецианские зеркала, — все словно бы ждали охотников за чужим добром. И те приходили, а потом умирали, сделавшись богаче знати, но так и не распробовав роскошь на вкус.
Человеку повезло — он нашёл чумного доктора. Все вокруг знали, что надежды на этих клювастых — мало. Но лучше плохой медик, а то и вчерашний студент, чем никакого. Доктор выглядел комично — вышагивал неподалёку от старой башни Катилины, как диковинная птица: маска, в виде птичьего клюва, была видна издалека. Фалды чёрного плаща хлопали на ветру, усиливая сходство с крылатыми созданиями. Шляпа с огромными полями, высокие сапоги, перчатки по локоть, длинная трость — переворачивать мертвецов, — вот и весь доктор. Подходишь ближе — добавляется запах розмарина или ладана: ими набит клюв, чтобы аромат пересиливал чумные миазмы. А порой от доктора за версту несёт дешёвым вином: клювастые редко выходят на свою злую работу без того, чтобы не хлебнуть добрую порцию горячительного.
Человек знал об этой слабости чумных докторов. Встреченного он угостил выпивкой в последней пивной, ещё открытой на рыночной площади. Хозяин торговал пойлом из-под полы, тайком. Городской совет запретил винную торговлю; у найденных бочек предписывалось выбивать дно и сливать вино на землю. Но выпить порой хотелось даже городской страже и трупным командам, так что на непорядок закрывали глаза, а смерти здесь давно не боялись. Поговаривали даже, что она сама заходит сюда порою: смиренная дева, укутанная в чёрный бархат, с чёрной вуалью на глазах, — и тогда ни один бесшабашный висельник не смеет заговорить с ней или присесть с кружкой напротив.
Человек не назвал доктору своего имени, не рассказал о заболевшей жене. Он знал, что, по закону, её надлежало забрать в карантин, откуда уже никто не возвращался. Потому он всего лишь спросил, как лечить чуму.
Клювастый, без маски, выглядел совсем молодым, но смертельно усталым. Как назло, он оказался говорливым малым: его щербатый рот не закрывался, и оттуда, вместе со словами, исходила невероятная вонь. Он начал с того, что рассказал, откуда берётся болезнь. Из земных недр, из болотной гнили и разных нездоровых мест, поднимаются летучие гибельные миазмы и разносятся ветром по миру. Поднимает их из глубин — может, из самого ада, — притяжение планеты Сатурн. Миазмы, проникая в тело, рождают в области сердца ядовитый бубон. Тот набухает, растёт вширь, пока не взрывается и не отравляет кровь. Тогда больным овладевает лихорадка, и уж не отпускает его до самого конца. В это время приходят видения. Праведные и богобоязненные видят картины жизни в райских кущах — их последние земные дни блаженны. Но грешники, коих куда больше, наблюдают за адом, низвержение в который им предстоит. Потому они катаются по ложу, бьются о стены головами, а иногда бешено орут из окон разные непотребства на весь город. Впрочем, сил у грешников хватает лишь на первые пару дней лихорадки. Потом ими овладевают страх и тоска, их дыхание делается громким и прерывистым, накатывает кашель. Ещё через день становится чёрной моча, чернеет язык; кровь, если её пустить больному, тоже окажется черна, как дёготь. На руках и ногах вызревают твёрдые бубоны, на груди — карбункулы. Когда у больного кровь начинает идти носом — это знак, что он вот-вот предстанет перед Господом. До этой встречи остаётся сущая малость — день, а иногда и часы.
Доктор осушил три кружки, пока живописал всё это.