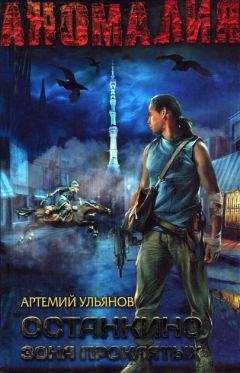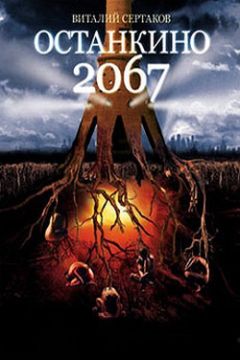Медленно отойдя от края плитки, Кирилл решил просто понаблюдать за непрошеным гостем, который молча глядел на него в упор, шумно сопя и изредка медленно смаргивая. Наконец Васютин обрел способность мыслить: «Это фальшивка, мужик не настоящий! А чего тогда от него воняет? А почему из Женьки кровь лилась? Фальшивка — это опять провал, а здесь провалы по двадцать часов! Ну и что, что провал? Не впервой! Да как на плитку-то перебраться, если он там стоит? А вдруг спихнет, тогда что? Тогда кранты, лететь далеко придется. А может, его самого спихнуть? А если не выйдет? Черт его знает, на что он способен. В прошлый раз фальшивка себе башку отрезала, а потом ею еще и разговаривала. Может, он постоит и уйдет? А зачем же он тогда пришел? Одежкой своей похвастаться, что ли? Что делать-то?»
Подождав, когда истеричный гомон в голове стихнет, Васютин попытался просчитать варианты выхода из ситуации и возможные последствия… На помощь пришла безупречная интуиция сыщика. Лишь мельком зацепив взглядом опрокинутый стеллаж, Кирилл уже знал, что сделает. Упершись в угол своего импровизированного моста, он сдвинул его, нацелив ровно на бродягу, продолжающего молча стоять у него на пути, и начал медленно толкать в его сторону. «Хотя бы дотронусь до него, а там посмотрим, как он отреагирует», — думал Васютин, когда до границы плитки оставалось несколько сантиметров.
Мужик смотрел ему прямо в лицо пустыми бессмысленными глазами, не обращая на угрозу ни малейшего внимания. И продолжал также отрешенно стоять, когда металлическая конструкция приблизилась к нему почти вплотную, замерев чуть выше уровня его коленей.
— Главное — не трогать другие плитки, — шепотом сказал себе Васютин, оглядываясь на вторую секцию моста, стоявшую чуть сзади и слева от него. — В случае чего — сюда и запрыгну, — решил он.
Прекрасно отдавая себе отчет, что «в случае чего» железка ему не поможет, он был готов ко всему. И даже к тому, к чему нельзя быть готовым — к невозможному. Произнеся: «Боже милостивый, помоги мне, умоляю», — он собрался всем своим существом и уверенным мощным толчком двинул свой таран прямо на бродягу, до которого оставались считаные сантиметры.
Стеллаж вошел в мужика, словно в масло. Как будто протиснувшись сквозь его кости, поросшие дряхлым, усталым мясом, железяка проходила оборванца навылет, непостижимым образом двигаясь сквозь его тело. При этом на теле незнкомца не проступило ни капли крови. Было отчетливо видно, как плоть бродяги пропускает металл сквозь себя. А старик все также безжизненно смотрел на Васютина, словно хотел сказать: «Я за свою жизнь горемычную такого видывал… Что мне подполковник с этим стеллажом?»
Васютин вскрикнул, отпрянув. Но вовсе не от фантастического зрелища, ведь он был готов ко всему. Но видеть и чувствовать внутри себя такое!..
Все происходило так непостижимо быстро и вместе с тем так выпукло и объемно, что можно было не спеша рассмотреть мельчайшие детали этих ярких стремительных картин, которые с хрустом отпечатывались поперек сознания подполковника Васютина. Так, восхищаясь бешеной скоростью хлесткой вспышки молнии, можно было полюбоваться плавным потоком электронов внутри нее. И красотою каждого электрона в отдельности. Время не перестало существовать, как это было с Кириллом, когда он узнал, что его семья исчезла. Кирилла как будто раздвинули изнутри, позволив быстротечным секундам вмещать события лет, при этом оставаясь секундами. Как если бы огромный мегаполис поместили внутрь яблочного семени и семя бы не увеличилось, а город — не уменьшился. Вздумай кто-нибудь попытаться объяснить Васютину суть того, что случится с ним, тот бы попросту не понял рассказчика. Но никто и не пытался. С Кириллом это просто случилось.
Первая картинка развернулась внутри Васютина, когда стеллаж стал входить в плоть того, кто стоял на одиннадцатой плитке. И выглядела она так.
Арена кочующего шапито, раскрашенная дешевыми красками, с выцветшим изношенным занавесом, колченогим реквизитом и уставшими от бездомной жизни артистами. Скучающие зрители, скрытые рыхлым полумраком, то ли смотрят, то ли не смотрят на немощного, седого бородатого факира в женском банном халате, расшитом золотистым елочным дождем. Ассистентка мага, истерзанная пустыми амбициями и букетом хронических заболеваний, с лицом, растянутым улыбкой, сует в факира громоздкую железную штуковину, с неуместным криком «але», отставляя обвисший зад, обтянутый несвежим купальником. Железки входят в бородатого циркача без видимого для того урона. Равнодушная тишина, повисшая под куполом шапито, нарушается одинокими аплодисментами и плачем ребенка. На самом деле магу очень больно, хотя физической боли он не чувствует. Ему больно от того, что год за годом каждый вечер он ломает эту комедию перед темным сонным залом, стоя в свете тусклого прожектора в халате своей покойной жены. Он делает это за скудную еду и стакан мерзкого жгучего счастья, которые продляют его мучительную жизнь еще на день. Жизнь свою он ненавидит, но дорожит ею, даже такой, потому что больше дорожить ему нечем. И зал на самом деле пустой, хотя в нем есть люди, да только и они пустые. Одинокие аплодисменты — дело рук конферансье, который как может отвечает за восторженную публику. Шапито — фальшивка, от начала и до конца. Лишь испуганный плач ребенка — подлинный.
Картинка прожила в сознании Васютина куда меньше десятой секунды. За это время он успел осознать, что физические оболочки, возникающие перед ним в этом проклятом магазине, сами по себе не угрожают ему. Но за ними скрывается настоящая опасность, которую надо уметь распознать. Бродяга не кинется на него, преградив путь к спасению семьи. Его плоть не сможет навредить. А вот то, что он прячет под ней, сможет.
Дальше на Васютина посыпались фрагменты чужой жизни. Словно сноп обжигающих искр, они жалили его сознание любовью, горем похорон, мертвыми надеждами на лучшее, унижениями, нежданной радостью. Вслед за событиями, наполненными лицами, словами, запахами и вкусами, врывались эмоции и даже физические ощущения. Чаще всего — боль. Это продолжалось нескончаемо долго. В какой-то момент Кирилл почуял, что чужая жизнь стремительно заполняет его. Он стал судорожно вырываться из этой западни. Его молниеносные нервные импульсы вязли в неповоротливых нейронных цепях, пытаясь заставить тело дернуться и закричать. И пока нервная система Васютина медлила, в его сознание продолжал проникать экстракт чужой жизни, заставляя проживать ее на ускоренной перемотке. Наконец он вырвался, вскрикнул, отпрянул.
Ошарашенно оглядевшись, Кирилл зажмурился и снова открыл глаза. Теперь он видел совсем другого человека, стоящего на одиннадцатой плитке. Он помнил его жизнь и то, как он ее прожил. Помнил, как неукротимое желание наложить на себя руки после потери жены и троих детей соперничало в нем со страхом смертного греха и животным стремлением жить. Как он был исступленно счастлив, когда пошла на поправку его любимая дочурка, которой все предрекали скорую смерть. Как истово вымаливал он прощение перед алтарем после того, как вусмерть пьяный пытался задушить родного брата.