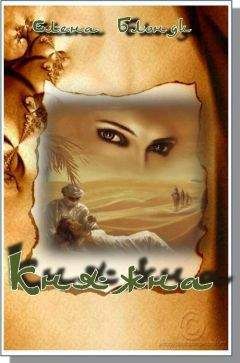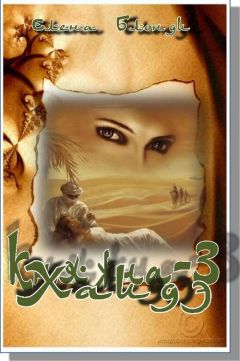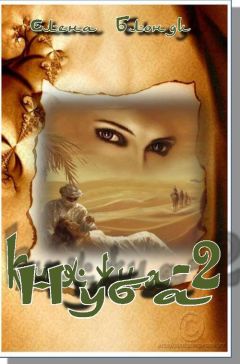Они не могли укрывать меня долго. Их была всего крошечная горстка, Кос, его братья и кумовья — первые мужья его вторых жен, я запуталась, когда они, быстро обряжая меня в мужские одежды, называя имена и родство, совали флягу с вином и сверток с вяленой рыбой. А потом, протащив узкими переходами на дикий склон горы, вытолкнули в лес. Старший брат первого мужа второй жены Коса провел меня до чащобы, где начинался мелкий лиственный лес, а за ним — уже были степи. И исчез, напоследок облапав мою грудь, ноющую от молока. Я пошла к тебе, сестра. Думала, Нуба тут. И он даст мне свою ворожбу против ворожбы жирных жрецов. Чтобы я смогла вернуться за сыном. Но ты прогнала его…
Хаидэ встала, подошла к Ахатте, взяла за руку, привлекая к себе. И бережно гладя длинные волосы, сказала с грустью:
— Он тосковал. Нам уже нельзя было вместе. И я отпустила моего Нубу. Но мы позовем его. Знаешь, я стала видеть его во снах.
Она огляделась. Небо светлело, еле заметно, и за степью загоралась тонкая полоска утренней зари. Сонно цвикали птицы, спрашивая и отвечая, сыпали с дерева сухие веточки и обрывки листьев.
— Пойдем. Ты устала, рассказ окончен, тебе надо как следует отдохнуть.
— А как же пророчества? Мы шли сюда, чтоб она, — Ахатта повернулась к Цез, которая казалось, задремала, привалившись к каменной стенке колодца, — чтоб она рассказала нам, что будет дальше. И ты должна была… — она смущенно замялась, и Хаидэ договорила за нее:
— Я должна была открыть и свою душу. Открою. Будет еще ночь, колодец и старое дерево. Все только начинается у нас. И лето, и следующая жизнь.
Обратно шли молча, за женщинами следовал Техути, поглощенный мыслями о разговоре со своим богом. А Лоя и стражника-раба будить не стали, оставив их спать на теплой земле.
В перистиле навстречу поднялась Фития, сурово посмотрела на усмехающуюся Цез. Сказала отрывисто:
— Иди в службы, гостья. Там в каморке постелено. А вас, — обратилась к подругам, — вас все дожидается этот, с дрынчалкой. Не пойду, говорит, никуда, пока не спою светлой госпоже своих песен. Какие песни, всех кур перебудит, мало нам одного, что с гостями куролесит…
Ворча, она шла впереди, неся потрескивающий факел, и, остановясь у лестницы ткнула им вниз обличающим жестом. Там сидел большой мужчина, замотанный в старый плащ и на мгновение сердце Хаидэ зашлось от тревожной радости — вот сейчас она положит руку на широкое плечо, откинется капюшон и черное лицо, сонно моргая глазами, покажется ей. Раздвинутся в улыбке толстые губы. Нуба…
Но мужчина пошевелился, капюшон сполз со светлых, почти белых волос. Шурясь от яркого света, Убог вскочил, закланялся женщинам, бормоча приветственные слова.
— Что ты хочешь, певец? Иди спать, а утром…
— Нет-нет, госпожа, позволь мне… Я принес песню. Ей, высокой и плачущей.
Ахатта замотала головой, пряча лицо в рукав.
— Я не хочу песен, бродяга. Мне больно. Я устала.
— Моя песня для отдыха. Ты спи, я спою совсем тихо.
Он повернулся к Хаидэ, протянул ей ладонь, разжимая пальцы.
— Больше нет ничего, добрая, у меня нет денег и нет вещей. Возьми это, она красивая. И веселая. Позволь мне петь для твоей сестры.
Факел пыхнул и затрещал, полоща красные языки в розовом свете утра. И по стеклянным плавникам и чешуям прозрачной рыбы запрыгали радужные отсветы. Хаидэ, задохнувшись, протянула руку, принимая нежданный подарок. Такой же, какой принес ей Техути, в первый свой день.
— Оттуда это у тебя, певец? Кто дал?
— Добрый человек. Я не помню имени. Сказал, бери, что нравится тебе, спасибо тебе, сказал он, бери, будет твое, продашь. Но я не продал, сердце спело мне, что это — твое. Я ее сам выбрал!
— Да, это мое. Я благодарю тебя за твой дар. Иди с Фитией, она покажет, где спит моя сестра, тебе разрешено находиться у входа.
Убог ушел, кланяясь, а Хаидэ, горя щеками, сжала в кулаке рыбу и схватила Ахатту за руку, зашептала:
— Иди, поспи, Ахи, иди. Это знак. Понимаешь? Все идет туда, куда должно ему идти. Мы справимся! Ну же.
И когда Ахатта, кивнув, собралась уходить, Хаидэ снова притянула ее к себе:
— Ахи, а скажи. Кос, когда тащил через гору, все-таки лапал тебя, а?
— Хаидэ! — Ахатта оттолкнула подругу, но, не выдержав, рассмеялась.
— Да. Но я шлепнула его по щеке. Чтоб Тека видела.
Кони весенние, шеи крутые
Ты мне спляши, хей-го-о
Дева прекрасная, волосы черные,
Неба ты ярче, света светлее…
Фития, не отрываясь, смотрела на черные и серые клубки, сложенные в подоле. Руки лежали поверх и в разгорающемся свете утра казались птичьими лапами. Вот он спел, тихо-тихо, маленькую песенку, которой юноши Зубы Дракона приманивают будущих жен. Фития знает такие — сколько пелось их на ее памяти, когда она, чистя у ручья казан или оглаживая щеткой лошадь, хлопотала у палатки в стойбище. Песенки пелись, двое уезжали из лагеря, далеко на закат или на восход солнца, а через год в их общей палатке орал первенец, сердито расшвыривая мягкие козьи шкурки. И мать, подхватывая его на руки, смеялась — воином будет, настоящим! А те, кто только вырос, пели новые песни большой весны. Эта — новая, Фития не слыхала ее, но все равно знает — из тех, что поют Зубы Дракона.
Усталая Ахатта заснула, еле добравшись до своей узкой постели, уронила голову на подушку, набитую шерстью. А певун сел на корточки у самой двери, правда внутри — Фития разрешила и села снаружи, чуть приоткрыв плотную занавеску. И пел тихо-тихо, помня про обещание, данное госпоже. Ахатта улыбнулась во сне, поворачивая к певцу скуластое лицо с темным румянцем. И задышала спокойно, светлея от каждого слова. Несколько раз шептала имя мужа. Исма, шелестом легкого ветерка доносилось от постели, и певец понижал голос, не прекращая петь. Мой Исмаэл…
Когда песня кончилась, бродяга, не поднимаясь, на корточках перебрался через порог и привалился к стене у самого подола старухи. Она смотрела на клонящуюся у колена светлую голову, поднимала удивленно брови, шевелила губами. Спросить ли? Откуда он — беловолосый и синеглазый, принес эту песню? Она не его. Но что изменят вопросы тому, кто не помнит вчерашнего дня? Спел и спел. Многое есть в мире, что не объяснить людям, оно ведомо лишь богам. Фития пожила достаточно, чтоб понимать — нужно смотреть и видеть самой, а не полагаться лишь на чужие слова. Сейчас она видела, как впервые со дня появления в доме, лицо беглянки стало светлым, девичьим, худые скулы мягко обвел мирный сон, и дыхание не отдавало отравленной сладостью. Такое не может идти от плохих богов, кто бы ни привел бродягу к страдалице — он сделал это для правильной цели.