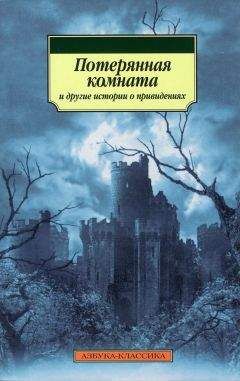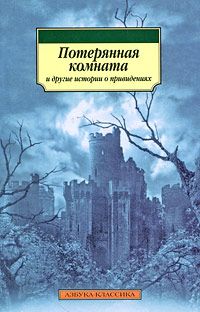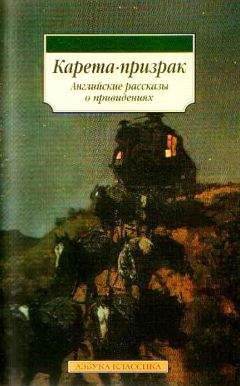Я толкнул дверь еще немного и заглянул внутрь. Солнце стояло низко, за деревьями, и прямые лучи сюда не проникали, но света хватало, чтобы разглядеть у самого входа груду грабель и мотыг, а также, чуть дальше, ряд ниш, предназначенных для гробов, но с давних времен пустующих. Внутри я установил, что ниши идут двойными рядами, теряясь во мраке. Я раскурил поярче сигару и, зажигая свечу за свечой, двинулся на разведку. В дальнем конце я обнаружил несколько ниш с гробами, которые находились на разных стадиях разрушения. Темная тканевая обивка истлела, кусочки ее валялись тут же и на каменном полу. Внешние деревянные вместилища кое-где уцелели, а кое-где распались на щепки. На нижнем краю некоторых ниш виднелись медные таблички с именами и датами, но они сохранились не все. В одной из ниш помещался источенный червями гроб грубой работы, но ни имени, ни даты, ни даже следа таблички не нашлось. Я не мог не предположить, что здесь покоится несчастный Гарольд Грантли; ему по праву было предоставлено место в фамильном склепе, однако кто-то из милосердных побуждений распорядился не указывать имени, дабы злосчастная судьба покойного канула в Лету. Все более надеясь на то, что поиски достигнут цели, я зашагал дальше. Поминутно меняя свечи, внимательно читал имя за именем; чтобы разобрать под грязью старинные буквы, приходилось протирать таблички носовым платком. Гробов оставалось все меньше, надежда постепенно уступала место разочарованию. Но это продолжалось недолго; вскоре я с несказанной радостью прочел на одной из табличек: «Артур Грантли, опоч. 25 дек. 1663 в возр. 22».
Так вот он — тот, кого я искал. Я стал внимательно разглядывать все, что уцелело. Побитый молью, изгрызенный крысами покров, вставленные один в другой гробы, вот и все. На миг я забеспокоился и огляделся: что, если рядом возникнет веселое юное привидение в пурпурном бархате и кружевах — на поясе качается рапира, и грозно спросит, с какой стати я его беспокою, но вокруг было тихо. Я пребывал наедине с собственными мыслями и намерениями, никто не собирался препятствовать мне или задавать вопросы.
Я боялся, что придется просить кого-нибудь о помощи, но зря. Все как нельзя лучше способствовало моему замыслу. Внешнее хранилище, покоробленное, источенное червями, сгнило окончательно, его можно было бы разбить на части одним ударом; свинцовый средний гроб был разъеден ржавчиной, швы распаялись и разошлись, и мне не понадобилось особых усилий, чтобы отогнуть конец крышки; внутренний гроб из красного дерева прогнил не меньше внешнего и подался так же легко. В считаные мгновения крышки всех трех гробов были вскрыты, туда можно было запросто просунуть руку.
Ненадолго я заколебался. Что, если, как иногда случается, останки не подверглись тлению и моя ладонь наткнется на твердую плоть? Справившись со страхом, я потихоньку протиснул руку внутрь — она не встретила сопротивления. Лишь тонкий слой праха на дне, едва ли достаточный, чтобы пальцем начертать на нем имя. Это было все, что осталось от веселого молодого кавалера, двенадцатого баронета Грантли. Я начал неспешно шарить по дну, перебирая прах, пока, ближе к дальнему концу, не наткнулся на небольшой твердый предмет. Сердце екнуло от волнения. Что это? То, на что я надеялся, или уцелевший фрагмент кости? Дрожа с головы до ног, я зажал предмет большим и указательным пальцем и кинулся к двери склепа. В полусумраке у приоткрытой двери моя уверенность окрепла, а при ясном дневном свете, подставив находку под золотые солнечные лучи, я расстался с последними сомнениями: мне в руки попал давно потерянный ланкастерский бриллиант.
Вернувшись в дом, я промолчал о своем приключении. Мне казалось, время еще не приспело, лучше подождать до вечера. Язык не поворачивался при ослепительном свете утра повествовать о тайнах мрака, вечных снов и вскрытых гробниц. Пока сумерки не внушат слушателям соответствующего настроения, кто поверит моему рассказу?
Более того: что, если днем явится дух, разгневанный моим вторжением в гробницу, потребует бриллиант назад и, быть может, я испугаюсь его чудовищных угроз и отдам свою находку? Обычное время явления духов близилось, их можно было ждать с минуты на минуту. Дядя Рутвен уже сидел в библиотеке, поджидая своего визитера. Он был как раз настроен не особенно дружелюбно по отношению к духам и громко объявил, что не намерен, как прежде, церемониться; миролюбию его пришел конец, и больше он их в доме не потерпит. А уж в эти дни особенно — сказал он; в доме готовится праздник, есть чем заняться и без них. И вот он, настороженный, уселся в большое кресло и, держа под рукой самый тяжелый том Британской энциклопедии, приготовился сокрушить духа при первых признаках его появления, прежде чем тот промолвит хотя бы одно слово.
Но к удивлению всех домочадцев и к сугубому разочарованию сэра Рутвена (он ведь приготовился действовать и не готов был смириться с тем, что зря потерял время), духи не появились: ни наверху, ни внизу. Ровнехонько в двенадцать, как никогда весело, забили колокола; многоголосый перезвон поражал необычной четкостью и быстротой; но дядю никто не тревожил, и Британская энциклопедия лежала рядом невостребованная. Наконец день стал клониться к вечеру, прозвучал гонг к обеду и мы направились в столовую.
На следующий день мы уже должны были обедать в большой компании; утром, после Рождества в тесном кругу, ожидались первые гости, которые нарушат наше уединение, и тогда уже не придется жаловаться на скуку. Но сегодняшний день сэр Рутвен желал провести без посторонних. Нас было мало, однако все помнили про Рождество и желали достойно его отпраздновать. Куда ни посмотри, комнату украшали остролист и омела. В дальнем конце камина уютно лежало большое рождественское полено, вокруг него весело трещали сучья поменьше, и оно старалось от них не отставать, но не всегда успешно — при его-то размерах. Пока оно с достоинством тлело, вокруг творились буйные игры, сопровождаемые громким треском и шипеньем. В трубу уплывали кольца красиво подцвеченного дыма, пламя вспыхивало языками, освещая все дальние углы и бросая красные отсветы на старые поблекшие портреты; даже древний, весь в трещинах, Рембрандт, на котором никто ничего не мог различить, заиграл яркими солнечными искрами.
Стол был накрыт только для нас троих, но в честь праздника так торжественно, как на два десятка пирующих. В центре водрузили, сняв чехол из зеленого сукна, высокий ветвистый канделябр, которым пользовались лишь в особых случаях. Из мест длительной ссылки вернули антикварное серебро (сэр Рутвен успел уже забыть о его существовании), и оно, как в прежние века, приятно замерцало в неярком свете канделябра. В расставленных там и сям вазочках неназойливо благоухали цветы. В нужное время из кухни должны были принести голову кабана, чтобы мы любовались, вкушали и делали вид, что ничего лучше в жизни не пробовали. Рождественский пудинг, шепнул мне Биджерз, удался как никогда за многие годы. Вокруг царили уют, гармония и веселье; все располагало к тому, чтобы поведать мою историю.