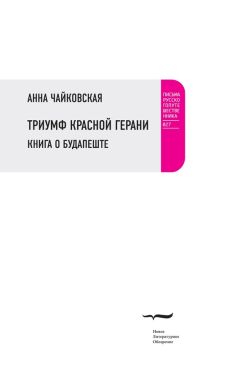— Якудза.
— Ну, да.
— У них дракон. А это — змея.
Молчание подняло голову, с многими тайными мыслями в ней, и, покачиваясь, устроилось там, в воздухе для дыхания. Висело… Витька сел на кровать, стаскивая трусы. Оперся на руку, смотрел на Наташу. Она, временно протрезвев от холодной ванны и неожиданного зрелища, смотрела на его грудь, в глаза зверю.
— А-а… Яша знает? Видел?
— Нет. Откуда? Зима ведь.
— Ну, да. Да… Покажешь ему?
— Зачем?
— Н-н-ну… Слушай, давай накатим, а? Я после коньяка, знаешь, какая умная? Тогда скажу.
Выпили. Подышали старательно, закусывая воздухом, оба забыв о брошенном в прихожей свертке с балыком. Послушали, как ходит по двору Дарья Вадимовна, раздражающе близко, за окном, — казалось и нечего делать ей здесь, в этом углу двора, а все ходит и ходит. Жестом Наташа велела налить еще. И снова выпили. Она поменяла позу, подсунула под спину подушку и села удобнее, продолжая смотреть.
— Ну, дела! А скажи, это женщина? Или это — змей? — и, прикрыв уставшие глаза, похлопала рядом по второй подушке, приглашая сесть. Витька устроился рядом. Вытянул ноги рядом с Наташиными. Лежали, не касаясь друг друга.
— Змея. Женщина.
— Ага. Я так и думала. Ты ж мужчина. А для женщин тогда — змей? И есть — для женщин?
Витька вспомнил, как быстро, горячо говорила ему Лада, цепляясь за рукав, а ветер кидал в лицо длинные волосы цвета карамели. И маленькую змейку на ее худом плече. Маленького змея?.. Маленького совсем… Но от него — цветок пожара под их летящими в воздухе ногами.
— Есть, Наташа. И для женщин есть. Только вот…
— Не говори, не хочу. Не надо мне ваших змей.
Витька посмотрел на темную бровь стрелкой, шрамик в уголке губ и влажные пряди волос за ухом. Солнце снаружи, наконец, проснулось и, сунув в просвет занавесей горячий пруток, зажгло в сером глазу Наташи зеленую точку.
— У тебя есть рыбы.
— Есть. У меня есть. Только я не знаю, Вить. С рыбами. Они приходят, когда кому-то совсем плохо, совсем-совсем. Даже если не знает никто. А потом. Потом что-то случается. Ну, с женщиной, с какой-нибудь. Потому что рыбы — только для женщин.
— Что случается?
— Всякое. Прошлым летом Надюха утонула. А перед тем Олька уехала в город, поступать. И ее нашли, с крыши спрыгнула. Утром нашли.
— Господи… Зачем же вы туда ходите?
— Затем.
Протянула к ему руку, покачивая в солнечном луче пустую рюмку. Осколками запрыгали искры от граней. Витька бережно налил половину и, помедлив, плеснул еще.
Наташа выпила с удовольствием, медленно, протягивая по языку ленточку жаркого хмеля. Посмотрела на бутылку, уже наполовину пустую, и убрала рюмку на столик. Повернулась к Витьке, опираясь головой на ладонь согнутой руки. Солнце тут же бросило на талию узкий поясок луча.
— Затем ходим, что тем, кто ныряет, становится легче жить. Вот только, Вить, никто не знает, кто потом уйдет. Та, которая горем своим рыб позвала или одна из тех, что просто лучше жить хочет…
Протянув руку, погладила змею по спящей голове. Повела вдоль извилистых линий расписной шкуры через грудь, к талии, по бедру.
— Налить еще?
— Успеется, теперь. Я вот с твоей девушкой знакомлюсь, видишь?
Солнце за шелковыми узорами прикрыло яркий глаз, и поясок луча на талии потускнел, растаял на загорелой коже.
Солнце цветило узорчатый шелк задернутых штор, вело по завиткам теплыми пальцами, и вдруг отворачивалось, будто испуганное кем-то, и тогда рисунок тускнел из голубого в серый. Звуки с просторного двора множились, складываясь в короткие разговоры, вот Григорьич покашлял, спрашивая что-то у жены, а вот Васькин отрывистый ответ на увещевания о завтраке, — и снова лишь шарканье шагов. Шаги смолкали, удаляясь, хлопали где-то двери. И опять бродили по занавесям солнечные теплые пальцы. Когда двое не падали в происходящее на постели, не отгораживались горячей кожей, пОтом в складках локтей и коленей, Витька слышал… После переставал. И снова слышал…
Уже когда лежали тихо, рядом, смотрели в потолок, на дым сигаретки кольцами в маленькой паутинке у люстры, поскребся в наружную дверь Вася, спросил суровым голосом:
— Наташка, спишь чтоль?
Но ждать ответа и сильно шуметь не стал, и Витька слышал, как прошли по двору два голоса, хозяйкин, толкующий про гостинцы для Васькиной матери, и мальчика, односложными репликами — к зеленым воротам, выходящим на степную дорогу.
Стихло все…
— Теперь скажи, ах, Наташа, как все хорошо было, Наташа, ну пока, бывай, девочка…
— Зачем ты так?
— А вы все так говорите. Приехать, покупаться, погулять, бабу местную трахнуть и домой, к женам и девкам своим.
— Нет у меня жены. И девки нет. И потом, думай же головой, я что тебе — летний гость? Я тут сижу… не для отдыха, в-общем.
Он хотел добавить, что ведь сама начала, но скривился от пошлости непроизнесенной еще фразы, махнул мысленно рукой.
— А для чего сидишь? Прячешься, что ли? Вон и мобильника у тебя нет. Даже к компьютеру не хочешь, я ж звала. Интернет у Кольки свободно, ему по работе же надо.
— А ты понимаешь, только если прячутся? Мне… с собой надо разобраться.
— Скажите, какие умности.
Она перевернулась на живот, потянулась за пачкой — закурить сигарету. Две сломала и просто смахнула на пол. Туда же скинула подушку и оперлась подбородком на ладонь. Витька смотрел на вздернутые лопатки и прогиб спины, на белые ягодицы.
— Голая летом — не загорала, что ли?
— А тебе какое дело?
Сунул окурок в пустую рюмку, смял, убивая дымок.
— Слушай, чего ты злишься? Хотела напиться — напилась. Секс… Неплохой такой, похоже. Никто нас не трогает. Какого ты меня кусаешь? Ну, расскажу я тебе и что? Подумаешь — чистый псих.
— Я, Вить, с рыбами ныряла в закат. И кто тут псих? Только ты ж не расскажешь все равно. Всего не расскажешь.
— Не надо тебе. Всего…
— Ну, тогда немножко. Просто вслух поговори. Тошно мне, Вить. К вечеру надо возвращаться, а там — снова рожи эти, в зубах навязли. Пальцем тыкать будут. Ну, не пальцем, так за спиной сплошное шипение. У нас тут, Вить, своих змей полно… Я ведь тебе рассказала. Немножко. Главного зато.
Посерела занавеска. С моря густо загудел пароход. В углу потолка молча билась зимняя муха и потрескивал на полу подсолнух включенного рефлектора.
— Пойдем кофе сделаем, а? Там тепло, у стола, можно и не одеваться.
В столовой и правда, было мягко, сквозь тонкий тюль солнце раскладывало на скатерке пасьянс из четырех светлых карт. Кипятильник стучался в край большой кружки, остерегал, чтоб не совали пальцы в парящую воду.