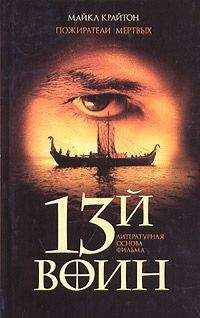Много раз мы были вынуждены ночевать под дождем. Пытаясь от него спрятаться, мы искали убежища под густыми кронами больших деревьев. Тем не менее просыпались мы насквозь мокрыми, а шкуры, в которые мы заворачивались, можно было выжимать, словно их только что вынули из воды. Норманны не выражали никакого недовольства по поводу такой погоды и вообще были все время жизнерадостны и веселы; жаловался на лишения и неудобства лишь один я, причем жаловался постоянно и эмоционально. Они не обращали на меня никакого внимания.
Например, однажды я сказал Хергеру:
– Дождь очень холодный. Он рассмеялся:
– Ну как дождь может быть холодным? Холодно тебе, и поэтому тебе плохо и грустно. А дождь не может быть ни холодным, ни плохим.
Я понял, что он говорит эту чушь совершенно серьезно и действительно так думает. С его точки зрения, глупы были мои рассуждения. Тем не менее я остался при своем мнении.
Как-то поздно вечером у нас состоялся следующий разговор.
– Во имя Господа Бога, – негромко сказал я, приступая к еде, и Беовульф, услышав это, обратился к Хергеру и велел ему выяснить, что именно я сказал. Я ответил Хергеру, что, согласно моей вере, любая еда должна быть освящена краткой молитвой и что я так поступаю, соблюдая обряды, предписанные мне моей религией. Выслушав перевод Хергера, Беовульф уточнил:
– Значит, так принято у арабов? На этот вопрос я ответил:
– Нет, на самом деле освятить добычу должен тот, кто убил животное, предназначенное в пишу. Я же произношу свою краткую молитву лишь для того, чтобы не проявить неуважения к божественным заповедям[12].
Не знаю, что смешного нашли норманны в моих словах. Но почему-то они громко расхохотались. Потом Беовульф вновь обратился ко мне с вопросом:
– Ты умеешь рисовать звуки?
Я не сразу понял, что он имеет в виду, и переспросил Хергера. Мы обменялись несколькими уточняющими фразами, и наконец я уяснил, что предводитель викингов спрашивал, умею ли я писать. Оказывается, норманны называют арабский язык звуками или шумом в силу полной его для них непонятности. Я ответил Беовульфу, что умею писать и, разумеется, читать.
Он сказал, чтобы я написал ему что-нибудь прямо на земле. При свете вечернего костра я взял подходящую палочку и написал: «Велик Аллах». Все норманны с явным удивлением разглядывали надпись. Мне велели произнести вслух то, что написано, и я это сделал. Дольше всех смотрел на надпись Беовульф, сидя в задумчивости у костра, склонив голову на грудь.
Хергер спросил меня:
– Какому богу ты молишься?
Я ответил, что верую в единого Бога, имя которому Аллах.
– Одного бога не может быть достаточно, – возразил Хергер.
Наутро мы отправились в путь и проехали еще день, стали лагерем на ночь, затем проскакали еще день, и уже у костра на следующий вечер Беовульф начертил на земле то, что я написал перед ним два дня назад, и велел мне прочесть.
Я произнес вслух все те же слова:
– Велик Аллах.
Беовульф вполне этим удовлетворился, потому что, как я понял, он решил таким образом устроить мне проверку и выяснить, не обманываю ли я их. Не умея читать сам, он просто запомнил переплетение линий, изображенное мною на земле, и затем воспроизвел эти знаки по памяти.
Теперь Эхтгов, второй человек в отряде, помощник Беовульфа, человек суровый и не такой веселый, как все остальные, обратился ко мне через Хергера. Тот перевел:
– Эхтгов хочет знать, можешь ли ты записать своими знаками звуки его имени.
Я ответил, что могу, поднял с земли палочку и стал писать у костра. Буквально в следующую секунду Эхтгов подпрыгнул, выхватил у меня палочку и затоптал ногами то, что я успел написать. При этом он что-то грозно говорил.
Хергер сказал мне:
– Эхтгов не хочет, чтобы ты писал его имя, и ты должен пообещать, что никогда не будешь этого делать.
Я был удивлен такой реакцией, но прекрасно видел, что Эхтгов рассердился не на шутку. Остальные викинги также смотрели на меня беспокойно и сердито. Я пообещал через Хергера, что никогда не буду писать имен Эхтгова и остальных своих спутников. Услышав перевод моих слов, все явно вздохнули с облегчением.
Больше мое искусство письма в нашем отряде не обсуждалось, но Беовульф, как я понял, сделал для себя какие-то выводы и дал остальным воинам некоторые указания. Как бы то ни было, но с тех пор мне стали выделять больше еды, чем прежде, а если нам приходилось ночевать под дождем, то для меня оставляли место под самым раскидистым деревом.
Впрочем, не всегда мы ночевали в лесу, как и не всегда наш путь пролегал через лесные чащи. В некоторые леса Беовульф и его товарищи въезжали, не задерживаясь на опушке ни на минуту. Они порой скакали во весь опор прямо через лесные заросли, уверенные, что ничего плохого в этом лесу с ними случиться не может. В то же время на подходе к другим лесам Беовульф командовал сделать остановку, и каждый из воинов, спешившись, разжигал маленький костер и приносил своим божествам какую-то, пусть и скромную, хотя бы символическую жертву, будь то несколько сухарей или обрывок ткани. Лишь исполнив этот ритуал, они были готовы двигаться дальше. А в некоторые леса наш отряд вообще не углублялся. Мы объезжали эти чащобы по опушке, стараясь как можно быстрее обогнуть их.
Я спросил Хергера, почему мы так поступаем, на что он ответил: некоторые леса безопасны для путников, а некоторые – нет, но в дальнейшие разъяснения насчет того, в чем именно состоит эта разница и какие опасности таят леса, куда не рискуют заезжать даже такие храбрые воины, он не углублялся. Я повторил свой вопрос:
– Что же за опасность подстерегает нас в лесах, которые мы обходим стороной?
Его ответ был таков:
– Это то, чего ни один человек не может одолеть. То, что нельзя ни убить мечом, ни сжечь огнем, – и это может обрушиться на тебя, если зайдешь в такой лес.
– А откуда все это известно? – поинтересовался я.
Он засмеялся:
– Вы, арабы, всему хотите найти причины и разумное объяснение. Ваши души – просто мешки, набитые всякими доводами и причинами.
– А разве вас не беспокоят причины и объяснения? – удивился я.
– Все это бессмысленно и ни к чему хорошему не приводит. Мы говорим: человек должен быть умен в меру, но не слишком. Чересчур умный человек узнает свою судьбу заранее. Человек же, чей ум свободен от лишних забот, живет счастливо, а знание своей будущей судьбы еще никому не придавало спокойствия.
Я понял, что мне следует удовлетвориться этим ответом. За время, проведенное в дороге, я уже научился понимать Хергера и мог предугадать, собирается ли он продолжать тот или иной разговор. Порой я спрашивал его о чем-либо, и он давал ответ на мой вопрос. Если же ответ был мне непонятен, я продолжал свои расспросы, и Хергер с готовностью на них отвечал. Тем не менее бывали случаи, когда на свой вопрос я получал лишь короткий, односложный ответ, и при этом Хергер давал понять, что выбранная мною тема не представляется ему сколько-нибудь значимой или интересной. В таких случаях рассчитывать на дальнейшее обсуждение не приходилось. Если я пытался настаивать, мой собеседник ограничивался лишь отрицательным покачиванием головы.