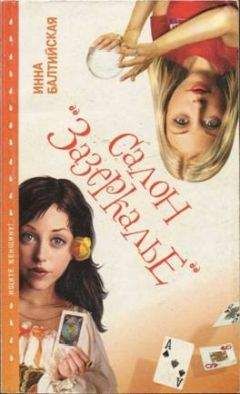Виллис мерил шагами комнату, капли пота выступили у него на лбу. Остин сидел молча, но Виллис заметил, что он украдкой крестится.
«Я повторяю, Виллис, ты не должен переступать порог того дома, ты ни за что не выберешься оттуда живым».
«Да, Остин, но я выйду и, думаю, живым. Я и со мною Кларк».
«На что ты надеешься? Ты не можешь, ты...»
«Погоди минуточку. Какой чудный воздух был сегодня утром, легкий бриз оживил даже эти унылые улицы; вот я и подумал, что неплохо было бы прогуляться. Пиккадилли выгнула передо мной залитый ярким светом простор, и солнце поблескивало на лаковых боках экипажей, и рассыпались в световой дождь его лучи, коснувшись подрагивающих листьев. Это было радостное утро, такое, что даже прохожие, спешащие, как обычно, по своим делам, взглянув на небо, улыбались, и даже ветер, веселящийся только на простерт пахучих лугах, весело дул в каменные ребра улиц. В общем, я и сам не знаю, когда покинул это оживленное место, но вскоре я уже шел по тихой пустынной улице, куда, казалось, не заглядывало солнце и не долетал ветер, и где горстка пеших людей слонялась без дела, позевывая на углах мрачных домов. Я шел по улице, едва сознавая, куда иду и что делаю, лиг странное побуждение продолжать поиски с неизвестной пока целью двигало мной. Итак, я шел по улице, замечая некоторое оживление у молочной лавки и дивясь той несообразной мешанине из грошовых безделушек, табака, конфет и газет, что была вывалена в небольшом проеме единственного окна. Я думаю, что как раз холодная дрожь, пробравшая меня там, это необычный мой собеседник первым сообщил мне: то, что я искал, — найдено. Я остановился напротив лавки и бросил взгляд на полустертую надпись над дверью, на почерневшие за два столетия кирпичи, на мутные окна, вобравшие в себя туманы и грязь бесчисленных зим. Я смотрел на дом и понимал, что вижу то, что давно желал видеть, но, думаю, прошло еще минут пять, прежде чем я успокоил себя и смог войти внутрь и, сделав каменное лицо, бесстрастно спросил то, что мне было нужно. Но и тогда, как мне кажется, голос мой слегка дрожал, ибо старый человек, появившийся из задней части лавки, как-то косо поглядывал на меня в то время, как увязывал сверток с покупкой. Я заплатил, не торгуясь, и остался стоять у прилавка, едва отдавая себе отчет в своей медлительности. Справившись у хозяина о делах, я узнал, что торговля идет плохо, прибыли почти нет, и улица с тех пор, как движение пошло стороной, неузнаваемо изменилась, уж сорок лет тому. «Как раз перед смертью моего отца», — сказал он. Я вышел из лавки и на сей раз пошел очень быстро, эта улица действительно угнетала, и мне было до странности приятно вновь ощутить себя среди шума и суеты. Не желаешь взглянуть на мое приобретение?»
Остин не ответил, но все же кивнул головой, хотя выглядел все еще бледно. Виллис выдвинул ящик из бамбукового столика и показал Остину моток веревки, новой и крепкой, с петлей на конце.
«Это самая лучшая пеньковая веревка, — сказал Виллис, — и дюйма джута, как сказал мне старик».
Остин стиснул зубы и уставился на Виллиса, еще больше белея в лице.
«Ты не сделаешь этого, — прошептал он наконец, — ты не должен брать на себя чужую кровь. Боже! — воскликнул он с неожиданной силой. — Ты что, действительно решил стать палачом, вешателем?»
«Нет, нет, что ты. Я предложу ей сделать выбор, а потом оставлю нашу милую Элен Воган наедине с этой веревкой в закрытой комнате на пятнадцать минут. И если, войдя через пятнадцать минут, мы увидим, что ничего не произошло, я вызову ближайшего полицейского. И все».
«Я должен немедленно уйти отсюда, это чрезмерно, я не вынесу этого. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи, Остин».
Дверь закрылась, но через мгновение открылась вновь. В проеме стоял Остин, белый, как полотно.
«Я забыл, — сказал он, — что у меня тоже есть о чем рассказать. Я получил письмо от доктора Хардинга из Буэнос-Айреса. Он говорит, что посетил Мейрика за три недели до его смерти».
«А он случайно не говорит, что лишило Мейрика жизни в расцвете лет? Не лихорадка же, в самом деле?»
«Нет, разумеется, нет. Согласно его заключению, это был предельный коллапс всей системы, вызванный, возможно, каким-то жестоким потрясением. Но он утверждает, что пациент ничего не говорил ему об этом, что поставило его в весьма невыгодное положение при лечении болезни».
«Что-нибудь еще?»
«Да, свое письмо доктор Хардинг заканчивает словами: «Думаю, это все, что я могу сообщить вам о вашем бедном друге. Он недолго прожил в Буэнос-Айресе и едва ли кого-нибудь здесь знал за исключением одной особы, которая, к сожалению, не была наделена благородством характера и с тех пор исчезла без всяких следов — мисс Воган».
(Среди бумаг хорошо известного врача д-ра Роберта Мэтьюсона с Эшли-стрит, Пиккадияли, внезапно скончавшегося от апоплексического удара в начале 1892-го, был обнаружен один листок с карандашными заметками. Все заметки сделаны на латыни, с большими сокращениями и, по всему видно, в великой спешке. С невероятными трудностями большинство фрагментов удалось расшифровать, но некоторые слова так и остались загадкой, несмотря на усилия специалистов. Дата 25 июля 1888 расположена в верхнем правом углу листа, изложенное ниже — перевод рукописи д-ра Мэтьюсона.)
Удовлетворится ли научный мир этими короткими заметками, если они будут напечатаны, или нет, я не знаю, хотя скорее всего, нет. Но одно для меня совершенно определено — я никогда не возьму на себя ответственность опубликовать ил разгласить хотя бы одно слово из записанных здесь, не только в силу моей клятвы, данной тем двум особам, что поведали мне обо всем, но также из-за невыносимости деталей этого злополучного дела. Возможно, что по зрелом размышление взвесив все «за» и «против», в один прекрасный день я уничтожу эту бумагу, или, по меньшей мере, оставлю ее, запечатанной, моему другу Д., полностью положившись на его усмотрение в том, дать ей ход или же просто сжечь.
Как и следовало, я сделал все, находящееся в пределах моих знаний, дабы увериться, что я нахожусь в здравом уме и рассудке и не принимаю иллюзии за действительность. Потрясенный поначалу в такой степени, что едва мог соображать, потом я пришел в себя и убедился, что мой пульс бьется ровно и я в своем уме. Тогда я попытался спокойно и твердо взглянуть на то, что было передо мной.
Хотя ужас и тошнота поднялись во мне, а вонь разложения перехватила дыхание, я все же решил не отступать. И был вознагражден или, лучше сказать, проклят видеть то, что содрогалось на кровати в метаморфозах, превращаясь в черное, подобно чернильной кляксе, пятно. Кожа и плоть, и мускулы, внутренности и кости, — вся та основа человеческого тела, которую я считал неизменяемой, постоянной от сотворения, от Адама, начала плавиться и растекаться.