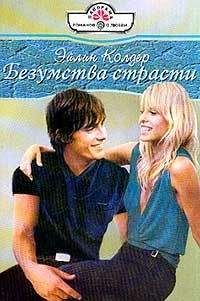Акатов не мог бы припомнить, когда их связь возобновилась. Это произошло так естественно и обыденно, что некуда было вставить шикарное иностранное словечко «адюльтер». Все же Вадиму было не по себе, он был уверен – рано или поздно жена все поймет, ее озарит, и он попадется. Но Анна была занята преимущественно собой. И сыном. Как-то сразу так вышло, что Сережка стал маменькиным сыночком. Отец же сына всегда словно немного побаивался – тому способствовали и воспоминания о том, какой это был хрупкий младенец, несколько недель кряду качавшийся в стеклянной колыбельке между жизнью и смертью, и слова Риммы, которые она любила повторять – и за глаза, и в глаза зятю:
– Мой внук – не кто-нибудь! Он правнук Сергея Гордеева, а это был человек – не нынешним чета! Да, были люди в наше время! Богатыри – не вы!
По ее словам, выходило так, что Акатов не чета собственному сыну, Акатову-младшему, в чьих жилах течет кровь благородных и прославленных предков. Вадим отмалчивался, но электричество все же копилось в воздухе и нашло-таки себе лазейку. Как говорится в плохой беллетристике, ничто не предвещало беды в тот воскресный полдень, когда Вадим Борисович, окончив свой поздний завтрак, включил в гостиной телевизор и расположился в любимом кресле.
В прихожей запел звонок. Римма пошла открывать – она ждала к себе студенточку-практикантку, которая помогала ей писать статью. Но вместо кроткого шепота и шороха, которым обычно сопровождались явления студентов, Вадим Борисович услышал невнятный гул, в котором слышались удивленный голос тещи и еще чей-то, явно принадлежащий мужчине и смутно знакомый. Недоразумение явно требовало вмешательства, но еще до того, как Вадим Борисович начал поднимать свое увесистое тело из глубокого кресла, в гостиную влетела Римма, растерявшая по дороге большую часть своей изящной вальяжности.
– Вадим, это к вам, – сообщила она, задыхаясь не то от смеха, не то от возмущения. – Какой-то мужчина. Судя по всему, ваш отец.
Она называла Акатова то на «вы», то на «ты», в зависимости от собственного расположения духа и настроения, и Вадим никогда это настроение уловить не мог, не уловил и теперь.
– Отец? – предпочел удивиться Вадим Борисович.
– По крайней мере, он называл меня дорогой свашенькой, – делано-кротко пояснила теща. – И пытался подарить мне родственное лобзание.
Совершенно растерявшись, Вадим вышел-таки в прихожую. Гость топтался у дверей, где Римма сдержала его, очевидно, мощным волевым импульсом. Это был высокий худой мужик в засаленной, словно атласной телогрейке и ужасающе грязных сапогах.
– О, так вот он, Вадька! – обрадовался мужик. – Гляди ты, как заматерел, прям как бугай! Да ты бы лампочку засветила, сватья, – строго обратился нежданный гость к обомлевшей от такой фамильярности Римме. – Дай с сыном поздороваться, сколько уж лет не виделись!
Римма хмыкнула, щелкнула выключателем. Мягкий желтый свет залил прихожую, и только тогда Вадим узнал отца и понял, что тот уже старик, а выглядит молодо только из-за худобы своей. Скуластое лицо с резко прочерченными морщинами, поседевшие и поредевшие волосы, нездоровые, желтые белки глаз да какая-то особенная заостренность черт выдают в нем тяжело и долгосрочно пьющего человека.
Совершенно машинально Вадим Борисович обнял отца, ощущая только кислый запах дешевых сигарет, солидола и сенной трухи. Римма Сергеевна благоразумно ретировалась.
– Ну-с, не буду мешать, вам, верно, надо поговорить. Да вы проходите, проходите в гостиную, сейчас я что-нибудь приготовлю, и…
– Не надо, не надо, – шепнул ей Вадим.
Теща сделала удивленные глаза.
– Я сам. И в гостиную не надо, мы в кухне посидим.
– Вот, это точно! Подальше от начальства, поближе к кухне! – поддакнул отец, и Вадим понял, что он тоже волнуется.
Впрочем, это не помешало ему достать из брезентового заплечного мешка бутыль перламутровой самогонки. Мотанул сосудом и посмотрел на сына вопросительно. Вадим покачал головой, выставил коньяк. Нарезал лимон, потом покосился на отца, достал колбасу, сыр, холодную курицу. Борис Иванович вынул из кармана пачку «Примы», покосился на сына, постучал сигаретой по столу, насорив табачной крошкой. И тут в кухню вплыла тещенька – что-то ей такое занадобилось – и тут же отдала распоряжение:
– Вадим, что же вы гостя холодным потчуете? Время обеденное, тут есть бульон, котлеты… – и удалилась, напоследок поставив перед гостем невесть откуда извлеченную керамическую пепельницу.
Вот так фокус! Вадим удивился. Выпив и закусив, Борис Иванович оправился от смущения и пояснил цель своего родственного визита:
– Хозяйство у меня, понимаешь, совсем заглохло, идрить его… Хатенка о позапрошлом годе почти вся сгорела, еле поднял, да все равно – потолок дырявый, еле дышит. Я и сам, скажу тебе, прихварывать начал. Так, идрить твою, живот прохватит, хоть ты вой… Лечить, говорят, надо. В районный центр ездил, говорят, лечить надо поджелудочную. Так ведь денег нет ни шиша, пенсия с гулькин хрен, зарплату не плотют. А везде надо подмазать. А хозяйство, понимаешь, совсем заглохло…
– Как ты меня нашел? – думая о чем-то своем, спросил Вадим.
– Так, идрить… Зашел к тетке твоей, то есть в квартиру ейную. Там бабеночка мне адрес дала.
Борис Иванович наклонился к сыну, подмигнул ему:
– Квартирантка, что ль? Гладкая бабенка, и девочка у ней крепенькая. Наша порода, сразу видать.
– Да ты чего, батя! – отшатнулся Вадим.
– Да ладно, мне-то не свисти. Дело такое. Слыхал, как у мусульман, – сколько жен можешь прокормить, столько и бери, никто слова не скажет. А ты неплохо зажил, я смотрю. Обстановочка, закусочка… Вот и подумал: может, поможешь чем… Отец я тебе все ж таки.
Вадим вздохнул с облегчением – разговор перешел в понятную, знакомую ему сферу денежных операций. Борис Иванович смотрел заискивающе.
Непутевую он жизнь прожил и сам об этом знал. Хозяйством занимался мало и плохо, работать не любил, а любил только выпить в хорошей компании да еще разве посидеть на бережку реки с удочкой. И поплавок обязательно чтобы гусиный, с красной макушечкой! Жена ему досталась сварливая, а может, спервоначалу-то она не такая была, а испортилась от нелегкой доли. Сыновья росли как грибы, самосейкой, и порядком досаждали ему, еще когда лежали в пеленках – ночным писком, а как подрастут, им то штаны, то башмаки подавай. И вдруг в одночасье все кончилось. Он остался один, свободным, никто не досаждал, ничего не требовал, и тут-то выяснилось, что так жить невозможно! Первое время еще куда ни шло, а потом все хуже и хуже, а тошнее всего от одиночества. Не с радиоприемником же ему разговаривать? Написал жене, просил или вернуться, или уж и его забрать с собой, но ответа не получил. Кому он нужен, старый пень? Конечно, он и не надеялся, честно говоря, что сын возьмет его жить в эту огромную и слишком чистую квартиру. Он бы здесь и дня не продержался. Тут, видать, всем сватья заправляет, а у ней хара-актер! Но может, сын деньжат сунет, а там и сам нагрянет в родную деревушку? С женой, с детками – вроде как на каникулы. А то так и сдохнешь один, как пес. Как ни крути, а брюхо и правда прихватывает, особенно после поддачи. Лекарство прописали, а оно дорогое…