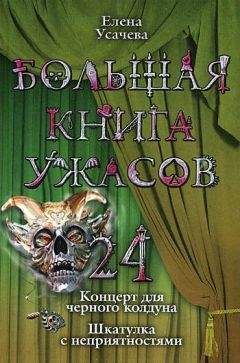– Ты – паркурщик?
– Не, я сам по себе. Просто нравится наверху. Это моя любимая крыша.
Ника покосилась с уважением. Странный парень… и симпатичный, если честно. А Лев смотрел поверх крыш, глаза у него холодно отсвечивали светло-голубым, как порой бывает у волков или хаски.
* * *
Большой город создан вовсе не из машин и домов. Большой город создан из людей и одиночества.
Город обещает счастье, любовь, квартиру, отдых у моря, светлое будущее… а сам заталкивает в человека, как в бутылку, черные монетки одиночества.
Когда они подберутся к горлышку – человек умрет.
От тяжести внутри.
От темноты.
Старик примостился на стуле у окошка. Он глядел на двор. Все важные дела в его жизни кончились. Была школа, первая любовь, выпускной, армия, работа… были свидания, свадьба, коммуналка в старом большом доме, сын, отдельная квартира… опять работа, дачка, огород, варенье из крыжовника… перестройка, пенсия, смерть жены… кот Василий, новый супермаркет на углу, поездки на кладбище, телевизор, темные вечера.
Сын часто звонил, конечно. Звонил.
Старик покосился на мобильник с большими кнопками, что пристроился рядом на подоконнике.
Вот раньше был у него телефон… Желтый, с большим диском, с черными цифрами. Диск щелкал и крутился, когда он набирал номер, трубка была весомой, удобной. А эта чирикалка – непонятно что.
Телевизор на холодильнике молчал. Триста тридцать три канала, а смотреть нечего.
– Давай, Васька, чай пить.
Васька не отозвался. Уже, считай, май на дворе. Гуляет, морда полосатая, песни орет. Прилечь, что ли?
Старик попил чайку, шелестя газетой, потом принял свои лекарства, прикорнул на диванчике не раздеваясь, укрылся пледом. Приснилась ему дача, пять яблонь за будкой, белые летящие лепестки и его Дашка в какой-то льняной длинной хламиде, босиком, руки по локоть в земле, видать, только с грядок, зовущая весело с крыльца:
«Але-о-ошка! Где ты бродишь, старый хрыч, сколько можно ждать-то? Пироги готовы, футбол твой начнется вот-вот. Да и наши все туточки, тебя только и ждем».
Он потянулся к ней, но тут же остановился, махнул рукой:
«Сына, погоди, провожу. Как он без меня-то, а?»
Дашка засмеялась, показывая белые зубы, а с яблони слетела хищная полосатая оса, закружилась, жужжа, над ухом…
Он сел, схватил разрывающийся телефон. Сын, наверно, припозднился, вот и названивает. Сколько натикало-то? Темно за окном – дождь, что ли?
Номер был незнакомый.
Какая-то женщина усталым голосом долго втолковывала про аварию, он слушал, кивал, пристраивал трубку получше, а сердце обжигало: сын! сын!
– Куда, куда ехать?! – зачастил он в трубку и долго не мог понять, что не надо ехать, что его все равно не пустят сейчас в реанимацию, завтра, пишите адрес, завтра, нужны документы, страховка…
Женщина терпеливо повторяла все по нескольку раз – видать, привыкла к непонятливым родственникам. Он нашарил карандаш, стал писать, грифель сломался… Схватил ручку, очки… прыгающими буквами накорябал адрес прямо на газете, телефон приемного покоя, что везти…
– Завтра, вы меня поняли? Состояние тяжелое, но стабильное. Приезжайте завтра.
Посидел, раскачиваясь на стуле, глядя в никуда.
Спохватился, заметался по квартире, собирая нужное в пакет.
«Дашке-то как сказать?» – мелькнула мысль, а потом он вспомнил, что Дашка его давно умерла. Прилег опять на диван, силы кончились.
И в полусне одна только мысль рвалась наружу:
«Сын, сыночек! Как же так, за что? Только бы выжил, выздоровел… что угодно, квартиру продам, операцию любую – только б жил».
Старик спал, а к окну с той стороны прижалось белое лицо с темными дырами вместо глаз. По плечам существа струились длинные рыжие волосы. Оно приникло к стеклу всем телом, прислушиваясь, потом осторожно толкнуло форточку. Та отворилась.
Рыжеволосая гибко протиснулась внутрь, невесомо протанцевала по подоконнику, спрыгнула в комнату, принюхалась… Встала над спящим стариком. Улыбнулась, показав белые треугольные зубы. Длинные рыжие пряди коснулись человека и зазмеились, заползая в уши, в рот, в ноздри, оплетая шею и запястья.
А старик в это время шел по черному коридору сна. Под ногами чуть скрипели и проседали доски.
Впереди светилась стеклянная дверь, изнутри покрытая морозным инеем. Он взялся за железную ручку, дернулся от обжигающего холода, робко вошел в огромную сумрачную комнату, заставленную тяжелой мебелью.
Высокий мужчина в плаще с накинутым капюшоном ждал его у окна. Слушал дождь.
– Вот… сыночек у меня. Единственный, – пробормотал старик. – Авария, говорят. В реанимации он. Стабильное, но тяжелое…
Черный медленно уронил, не оборачиваясь:
– Я собираю портреты, мой дорогой гость… Портреты и память. У тебя должна быть очень длинная жизнь, долгая память. Это хорошо.
Старик всхлипнул, руки задрожали сильней, показалось, что Васька отчаянно мяучит под дверью, он застонал во сне… но потом покосился на Черного и кивнул:
– Сыночек у меня, Егор, Егорушка… квартиру продам… все, что хотите.
Черный обернулся, протянул руку с когтями и нежно погладил старика по заросшей серой щетиной мокрой от слез щеке.
Кот Васька выгнул спину, зашипел с ненавистью. Тварь с рыжими волосами впереди него перепрыгнула с карниза на балкон. Обернулась перед прыжком, в глазницах полыхнули красные искры. Кот прыгнул следом, но рыжие волосы метнулись навстречу как змеи, хлестнули в полете. Кот мучительно выгнулся, цепляясь за перила когтистыми лапами, но сорвался и полетел вниз, переворачиваясь. Упав на землю, он вытянулся, будто все еще парил над невидимой пропастью.
А рыжеволосая, проводив взглядом кота, толкнула балконную дверь, высунулась в больничный коридор. Горела лампа на посту, медсестра спала, опустив голову на стол. Рыжая скользнула по стенке, отыскала нужную дверь, принюхалась, мягко просочилась внутрь. В одиночной палате размеренно дышал подключенный к дыхательному аппарату парень, недавно поступивший после аварии. Из капельницы, подведенной к его руке, медленно сочилось лекарство.
Тварь улыбнулась, разглядывая беспомощного человека. Широкий рот ее был перемазан в земле и запекшейся крови.
Рыжие волосы сами собой зашевелились и поползли, подбираясь к шее раненого.
Но тут на окна легла тяжелая темная тень. Рыжая вздыбилась и попятилась к выходу. Золотой свет, блеснувший в черных стеклах, жег ей кожу. За окном заворчали. Рыжая отпрыгнула, метнулась прочь, растворилась в сумраке коридора.
Парень в палате, казалось, задышал ровнее.
Умирающий кот на газоне задрожал и затих. Глаза его еще светились расплавленным золотом.
* * *
Иногда жизнь меняется так быстро, будто кто-то щелкнул пультом – и вместо одного фильма начался совсем другой. Актеры те же, лица знакомы, но вместо моря дыбятся горы, вместо погони – любовь, а в чашке вместо кофе плещется молоко.