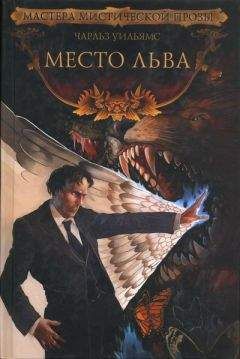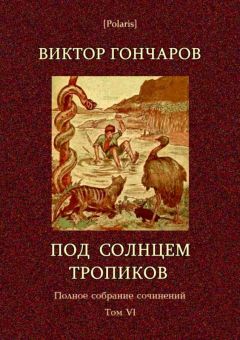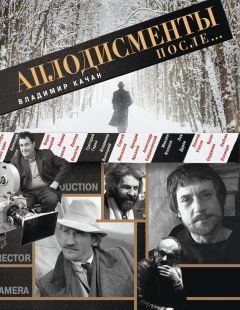Торжественные строфы зазвенели у нее в памяти. «Это не то, — сказал как-то Роджер на одной из своих „популярных“ лекций, — что поэзия говорит о власти, это сама власть и есть». Стихи говорили о величии, но их сила была не в этом. Они взывали к величию, своим звучанием вырастали во что-то по-королевски величественное, в то, что продемонстрировал им гость-зулус. Но в стихах Изабелла могла переживать эти ощущения, когда захочет, и если нет желания, книга останется на полке. А тут властная сила сама пришла к ней, не спрашивая ее желания…
Розамунда вернулась от окна к камину, и Изабелла вспомнила, что не ответила на вопрос сестры. Она сказала:
— Нет, сюда они не придут.
— Ты же больше не будешь с ним встречаться? — спросила Розамунда.
— С кем? С королем? — спросила Изабелла. — Не думаю.
— Я считаю, нельзя этого делать, — сказала Розамунда. — Это же не патриотично, правда? Зачем ты вообще позволила Роджеру его привести?
Изабелла немного напряглась.
— Моя дорогая девочка, — ответила она, — не я «позволяю» или «не позволяю» Роджеру. Если он хочет что-то позволить себе, — продолжала она, расслабившись, — он это делает.
По выражению лица Розамунды нетрудно было догадаться, кто и как будет позволять Филиппу проявлять свою свободную волю.
Изабелла добавила:
— Ты бы предпочла, чтобы мы «позволили» толпе напасть на него?
— Да, — решительно ответила сестра. — Ты не понимаешь, насколько он мне не нравится. Он… отвратителен.
— Не говори ерунды, Розамунда, — сказала Изабелла. — Ты вроде бы спокойная девушка, а позволяешь себя расстраивать кому угодно. Я не думаю, что вы еще встретитесь, но даже если и так, какая разница?
Розамунда поежилась.
— Почему Филипп такой рохля? — жалобно сказала она. — Не надо было ему сегодня уходить с ними.
Изабелла рассмеялась.
— Ты хочешь, чтобы Филипп был сильным мужчиной, которого можно водить на поводке, — сказала она. — У тебя не получится, дорогая. Филипп не пещерный человек.
— А мне не нужен пещерный человек! — воскликнула Розамунда. — Я все равно его ненавижу. Он выглядит как твой Роджер, когда цитирует эти проклятые стихи. Это неприлично. Как эти ужасные люди на пустошах.
— Что ты имеешь в виду? Какие ужасные люди? — спросила изрядно озадаченная Изабелла.
— Отвратительные твари, — процедила Розамунда. — Ты знаешь, что я имею в виду — все эти скоты, затаившиеся в ночи. Они делают все таким… таким омерзительным. Почему люди не могут быть милыми и вести себя прилично?
— Не цитировать стихи и не быть зулусскими королями, — пробормотала Изабелла. — Тебе многое не нравится в жизни, а? Надеюсь, ты не собираешься замуж за Филиппа потому, что ненавидишь его гораздо меньше, чем других знакомых тебе молодых людей? Боюсь, ему бы это не понравилось.
— Филипп! — произнесла Розамунда таким тоном, что Изабелла с тревогой посмотрела на нее. Слишком много неожиданных чувств сестра вложила в это имя. В голосе ее звучали и упрек, и страх, и ненависть, словно это Филипп, а не зулус, должен нести ответственность за все, что так не нравилось Розамунде. Похоже, она только сейчас увидела мир не просто устричной раковиной Розамунды Мерчисон, а этаким несимпатичным спрутом, чьи шевелящиеся щупальца тянутся к ней из ночной мглы. Король — Филипп — поэзия — люди с пустошей — африканские воззвания — конечно, что-то огромное пряталось во внешней тьме, что-то, чего Розамунда всегда избегала, если только… Изабелла вспомнила, как ее младшая сестра, которая всегда притворялась, что не любит шоколадных конфет, однажды тайком с жадностью слопала целую коробку. Неприятный был случай, и что еще хуже, Розамунда попыталась свалить вину на Изабеллу, и преуспела бы, однако сильнейшая аллергическая сыпь выдала виновную. Возможно. Розамунда ненавидела не только спрута, живущего снаружи. Изабелла, хмурясь на огонь в камине, пыталась быть рассудительной и любящей одновременно, и не очень расстроилась, когда Розамунда внезапно сказала:
— Я устала: пойду спать. Пожелай от меня Филиппу спокойной ночи, — и ушла.
Тем временем небольшая компания неторопливо приближалась к дому, где жил Инкамаси. Они шли в ряд, Роджер с одной стороны, Филипп с другой, а сэр Бернард и зулус обсуждали желудочные проблемы посередине. Слушая рассуждения старого врача, Ингрэм с легким стыдом подумал, что сэр Бернард всегда с удовольствием обсуждал с ним вопросы литературы, а вот Роджер почему-то никогда не рвался обсуждать с сэром Бернардом медицинские вопросы. Роджер восхищался им как специалистом, но при этом считал само собой разумеющимся, что его собственная профессия важнее и нужнее. В качестве оправдания он тут же возвел на старика напраслину, обвинив его про себя в излишнем добродушии и неспособности отстаивать собственные интересы. Сын его страдал теми же недостатками. Филипп был славным парнем, но он никогда не лез вперед, а серьезностью и неторопливостью даже превосходил отца. А еще Филипп отличался неразговорчивостью. То, что сэр Бернард уже много лет мог незаметно направить любой разговор в любую нужную ему сторону, при этом любая сторона оказывалась для него одинаково интересной, Роджеру как-то в голову не приходило. Ингрэм был настолько поглощен своим собственным предметом, пренебрегая остальными, что неизбежно предполагал подобную же увлеченность и небрежность в своих друзьях. Прислушиваясь к собеседникам, он подумал об обществе, явно недооценившем прекрасного специалиста, и тут же пообещал себе прочесть пресловутую книгу при первой возможности.
Лицо зулуса в свете фонаря навело его на мысли о том, как быстро и легко этот незнакомец овладел их чувствами. Этот внезапный поворот в рассуждениях и самого Роджера сбил с толку. Но уж такой он, этот Инкамаси. Сильный характер, сильная личность — он и должен легко подчинять людей. В сознании Роджера сами собой стали всплывать рифмованные строки… «Черт бы побрал эту рифму! — сердито подумал он. — Неужто нельзя без нее обойтись?» Но одно слово цеплялось за другое, поплыли цепочки ассоциаций: в голове завертелось с полдюжины строк, проникнутых войной и царственным величием, от «Мой соловей! Мы спать навеки уложили многих»[21] до «убоявшись неба иль побледнев, как полотно, пред ликом короля».[22] Нет, в рифме определенно что-то такое было, возможно, Мильтон имел в виду что-то более значительное, чем обычно думают, когда говорят, что великий поэт сам должен быть поэмой, возможно…
— А ты как думаешь, Роджер? — спросил сэр Бернард.
Ингрэм резко пришел в себя.