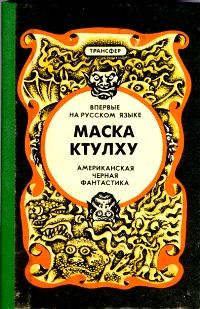Дело в том, что одежда действительно лежала весьма необычно — не так, как будто кто-то ее сложил. Не думаю, что кто-нибудь вообще мог так сложить одежду. Я все смотрел и смотрел на нее, не отрываясь, и не мог объяснить себе этого иначе, как если бы кто-то сидел здесь, а потом его из этой одежды просто вытянули, высосали, а одежда просто опала вниз без всякой опоры внутри. Я поставил лампу на пол и дотронулся до куртки: пыли на ней не было. Это значило, что долго она здесь пролежать не могла. Я спросил себя, видели ли ее люди шерифа — они наверняка могли объяснить это не больше, чем я. Поэтому я оставил все так, как было, ничего не потревожив и намереваясь наутро уведомить шерифа о находке. Но вмешались обстоятельства, и после того, что произошло в Распадке в ту ночь, я вообще об этом забыл. Поэтому одежда до сих пор лежит там, как бы опавшая на стул, какой я и нашел ее в ту майскую ночь полнолуния у окна кладовой на втором этаже. И вот здесь я пишу об этом, потому что этот факт может свидетельствовать в пользу того, что я утверждаю, и развеять ужасные сомнения, которые высказываются со всех сторон.
Той ночью козодои кричали с безумной настойчивостью.
Сначала я услышал их, пока еще стоял в кладовой: они начали звать с темных лесистых склонов, которые уже покинул свет, но далеко на западе солнце пока не зашло, и хотя Распадок уже погрузился в некие туманно-синие сумерки, солнце за ним еще сияло на дороге из Аркхэма в Эйлзбери. Козодоям кричать было еще рано, очень рано, слишком рано; однако они кричали гораздо раньше, чем начинали кричать прежде. И без того раздраженный тем глупым суеверным страхом, который отпугивал от меня людей всякий раз, когда я пытался что-либо выяснить в течение дня, я был уверен, что не смогу вытерпеть еще одной бессонной ночи.
Вскоре их плач и крики были уже повсюду: "Уиппурвилл! Уиппурвилл! Уиппурвилл!" Не оставалось ничего, кроме этого монотонного вопля и визга, нескончаемого "Уиппурвилл! Уиппурвилл!" Он наваливался на долину с холмов, он вытеснялся из недр самой лунной ночи, а птицы окружали дом огромным кольцом до тех пор, пока сам дом, казалось, не начал откликаться на их крики собственным голосом, словно каждый брус и каждая балка, каждый гвоздик и камешек, все до единой доски и половицы эхом отзывались на этот гром извне, на этот ужасный, сводящий с ума клич: "Уиппурвилл! Уиппурвилл! Уиппурвилл!" — взмывавший мощным хором голосов, какофонией вторгавшийся в меня и раздиравший все фибры моей души. Стена звука билась о дом, и каждая клеточка моего тела исходила мукой в ответ на их громогласный триумф.
В тот вечер, около восьми часов, я решил, что должен что-то сделать. У меня с собой не было совершенно никакого оружия, а дробовик брата реквизировали люди шерифа, и он по-прежнему хранился где-то в здании суда в Эйлзбери. Но под кушеткой, на которой я спал, я нашел прочную дубину: брат явно держал ее на тот случай, если его вдруг разбудят посреди ночи. Я намеревался выйти и убить столько козодоев, до скольких смогу достать, надеясь, что остальных это отгонит вообще. Я не собирался уходить далеко, поэтому оставил лампу гореть в кабинете.
Едва я сделал первый шаг за дверь, козодои вспорхнули и стали веером разлетаться от меня. Но мои долго копившиеся раздражение и гнев прорвались наружу: я бегал среди них, размахивая дубиной, а они неслышно порхали надо мной — некоторые молча, но большинство кошмарно пело по-прежнему. Вслед за ними я выбежал прочь со двора, ринувшись вверх по дороге, в леса, снова на дорогу и обратно в лес. Я убежал далеко, но насколько далеко — не знаю, хотя помню, что убил много птиц, прежде чем спотыкаясь, выдохшийся, наконец, вернулся домой. Сил во мне оставалось лишь на то, чтобы потушить в кабинете лампу, которая вся уже почти выгорела, и упасть на свою кушетку. Прежде чем дальние козодои, избежавшие моей дубины, снова смогли собраться к дому, я глубоко уснул.
Поскольку я не знал, во сколько вернулся, не могу сказать, сколько я проспал, прежде чем меня разбудил телефонный звонок. Хотя солнце уже встало, часы показывали лишь пять тридцать. Как это уже стало моей привычкой, я вышел на кухню, где у меня висел аппарат, и снял трубку. Так я узнал о наступившем кошмаре.
— Миссис Уилер, это Эмма Уотли. Вы уже слышали новости?
— Нет, миссис Уотли, я еще ничего не слышала.
— Боже! Это ужасно! Берт Джайлз — его убили. Его нашли как раз около полуночи там, где дорога идет через ручей Джайлзов, ближе к мосту. Лют Кори нашел его и, говорят, так кричал, что разбудил Лема Джайлза, и в ту же минуту, как Лем услышал, что Лют орет, так и понял, сразу все понял. Матушка ведь умоляла Берта не ездить в Аркхэм, но тому втемяшилось — вы же знаете, какие все Джайлзы упрямые. Он, кажется, хотел ехать вместе с Бакстерами — ну, знаете, у Осборнов работают еще, милях в трех Джайлзов — и отправился к ним, чтобы ехать вместе. Ни следа того, чем убили его, не нашли, но Сет — он уже ходил туда сегодня на рассвете — говорит, что земля вся так взрыта, будто там дрались. И он видел бедного Берта — то, что от него осталось. Господи! Сет сказал, что горло у него все разорвано, запястья разорваны, а от одежды одни клочки! И это еще не все, хоть и самое худшее. Пока Сет там стоял, прибегает Кёртис Бегби и говорит, что четырех коров Кори, которых те как раз вечером отправили на южное пастбище, тоже убили и разорвали — совсем как бедняжечку Берта!
— Господи! — испуганно захныкала миссис Уилер. — Кто же следующим-то станет?
— Шериф говорит, что это, наверное, какой-то дикий зверь, но следов никаких они не увидели. Они там вокруг работают с тех самых пор, и Сет говорит, что нашли они не очень-то много.
— Ох, когда Абель здесь жил, так не было.
— Я всегда говорила, что Абель не самый худший. Я знала. Я наверняка знала, что кое-кто из родичей Сета — этот Уилбер и старый Уотли — гораздо хуже такого парня, каким был Абель Харроп. Уж я-то знала, миссис Уилер. И эти другие, в Данвиче, тоже — не одни здесь Уотли.
— Если это не Абель…
— А Сет, он говорит, что пока стоял там и глядел на беднягу Берта, подходит Амос — Амос, который за десять лет и десяти слов Сету не сказал, — и только кинул один-единственный взгляд и вроде как себе поднос бормочет, Сет говорит, что-то вроде этого: "Этот чертов дурень сказал-таки слова!" — а Сет поворачивается к нему и говорит: "Что это ты такое говоришь, Амос?" — а тот смотрит на него и отвечает: "Нет, говорит, ничего хуже дурня, который не знает, что у него в руках!"
— Этот Амос Уотли всегда нехорошим был, миссис Уотли, истинная правда, и неважно вовсе, что вы родня, всё едино.
— Да уж, лучше меня этого никто и не знает, миссис Уилер.