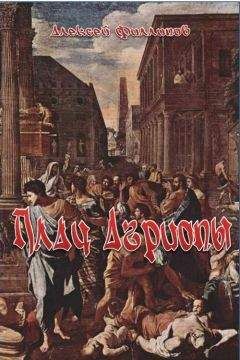- А как же, батюшка, она? — старуха повела подбородком на Елену, присмиревшую, опустившуюся, от немощи, на трухлявый пень.
- С нею без тебя решим, — отрезал Христофор.
Филиппея сжалась, может, и обиделась, и, шипя, как змея, повлекла Тасю по берегу, в сторону тёплого подвала. Старуха шла быстро. Не прошло и пары минут — место казни скрылось из глаз Таси. Но и тогда она слышала голос отче Христофора, словно тот звучал у неё прямо в ушах:
- Поди сюда, девонька. Твоё время пришло. Твой час пробил. Послужишь Господу так, как мало кто во все века служил.
- Опозорила ты меня, — ворвалось шипение Филиппеи в мягкое бормотание Христофора. — Ужо теперь я тебе отплачу. Стерва безродная. Вся в мать. Может, ещё с комиссарами стакнёшься? Вместо старой веры, красному полотнищу бесовскому служить станешь? Нет, не бывать этому. Уж я позабочусь. А знаешь, что пристани наши — повсюду? И в Питербурхе, и в Москве самой, и много ещё где. Куда б ни делась — везде найдём.
В словах старухи было столько злобы, что Тася от них вдруг полностью вошла в силу. Неведомо как, сделалась обычной здоровой молодухой. А ещё, обыкновенно бесхитростная, сделалась хитра. Дождалась, пока Филиппея отвлечётся, ключ от подвала искать начнёт.
Вырвалась.
Да что вырвалась — просто бедром повела, — Филиппею стряхнула. Та на табурет завалилась, копчиком ударилась, взвыла.
А Тася бросилась бежать.
За спиной заливалась белугой Филиппея. Кто-то услышал её, но, к счастью для беглянки, не разобрал, о чём старуха верещала; направился в дом, чтобы Филиппее помочь. Только потом устремился в погоню.
Тася, к тому времени, была уже далеко.
Она бежала по лесу легко, быстро. Христофор с братией не могли её перехватить — девушка выбрала путь, параллельный логу, по другую сторону от стороны утопленья. Преследователям пришлось возвращаться в Град, а уж затем преследовать Тасю.
В направлении, которое та избрала для бегства, скитские, когда была нужда, двигались не по тропам — по так называемым «мостам»: поваленным стволам деревьев, болотным кочкам, мёртвым муравейникам, пенькам. Это чтоб следов не оставлять. Чтоб чужаков путать. Тася поначалу узнавала метки: всегда была глазастой. Не задерживалась. Но потом заплутала. Дважды возвращалась по следу.
На третий раз услышала голоса преследователей.
Запаниковала, свернула по стёжке, показавшейся надёжной, — и уткнулась в болото.
Голоса приближались.
«Утоплюсь здесь, для себя — не для Христофора», — мелькнула в голове нелепая мысль. Тася бросила изучающий взгляд на трясину впереди. Та мягко покачивалась, будто квашня. Словно приглашала: «Сделай шаг — и спасёшься. Не мудрствуй, не выбирай — вон я какая, от края земли до другого края. И ничего, кроме меня, на земле уж нет».
И вдруг на взгляд Таси ответили. Она нутром почуяла: как она смотрит на трясину, так и на неё кто-то положил глаз — пялится, изучает. Позади — ещё никого; ещё не догнали, не успели. А впереди — кто может глядеть из болота? Разве, дух болотный или водяной?
Кузнечик.
Тася не верила глазам.
Её сверлил взглядом — пристальным, умным взглядом — огромный кузнечик. Она таких никогда прежде не видала.
Кузнечик прострекотал что-то — и прыгнул: в глубь трясины, от Таси — прочь. Но там, куда он приземлился, девушка не увидела трясинной зыби. Ряска не ходила ходуном. На крохотной кочке росла настоящая трава, хотя зеленела она, надо думать, до зимы; сейчас трава была жёлтой и сухой.
Тася поднялась, постояла столбом одно мгновение. За дальними деревьями замелькали тени; скитники приближались. Беглянка решилась: оттолкнулась ногой от брусничника, взлетела над трясиной — и приземлилась точнёхонько на кузнечика. Тот, правда, успел перепорхнуть: ещё болотистей, ещё погибельней. А Тася — глупа или мудра, как никогда, — опять перескочила на клочок незыблемой суши — за ним.
Кузнечик вёл Тасю по болоту. Медленно, страшно.
К трясине выбежали скитники. Скрытники и скрытницы что-то кричали, но на болото — не совались. Христофора среди преследователей не было.
Дважды Тася едва удерживалась на пятачке суши. Однажды её нога соскользнула в ряску, и она, вымокнув в болоте по пояс, с трудом сумела выбраться на кочку — одно недоразумение, а не опору.
Скитники быстро скрылись из виду. А болото не кончалось ещё час, а то и больше. Наконец, впереди раздался не то визг, не то треск. Как будто десяток двуручных пил разом деревья валили. Девушка отвлеклась на него, потом огляделась: где же кузнечик, где поводырь? А того и след простыл. Сперва испугалась: куда ж она теперь. А потом поняла: болото-то — высохло, за спиной осталось. А впереди, — внизу, под склоном, — дорога. Хорошая, утоптанная.
Тася выскочила на дорогу, всклокоченная, в порванной рубахе утопленницы, потеряв где-то в лесу шейный платок. Навстречу ей двигалось что-то рычащее, грозное. Четыре железных колеса: два — позади — в человеческий рост, — два передних — поменьше. А управлял шумной железякой молодой парень, в кепке, залихватски заломленной на затылок. Завидев Тасю, он аж обомлел. Затормозил, из тарахтелки своей вылез:
- Ты кто такая, что советскому трактору под колёса лезешь? — спросил сурово, но напускно, картинно, без злобы, как у Христофора.
- Я Тася… Таисия Крюкова…. И мне надо в город…. К начальникам…
- К каким таким начальникам? — парень выпучил глаза. — К партийным? Или, может, в ГПУ?
- Мне про бегунов рассказать, — выпалила Тася. — Про то, как они людей до смерти умучивают.
- Эвона как, — парень стушевался, почесал затылок; весёлость ушла из его голоса. — Ты сама что ль из них?
- Сама, — кивнула решительно Тася.
- Ну тогда садись, — парень усмехнулся. — Отвезу тебя…. Не побрезгуй, места в кабине мало. К вечеру доберёмся.
Тася опять кивнула. И улыбнулась. Впервые с тех пор, как, после смерти отца, осталась одна на всём белом свете.
* * *
- Спасибо, — благодарность, какую испытывал Павел к богомолу, была настолько велика, что это простое слово само сорвалось с губ, как только способность говорить — вернулась.
Благодарность — она стала первой.
Первым долгом, что отдал Павел после пробуждения.
Благодарность опередила и удивление, и тревогу, которые явились следом. И ещё — она была раньше неузнавания.
А Павел и вправду не узнавал ни места, ни времени, ни себя самого.
Он лежал в койке — больничной, хитроумной, оборудованной множеством электронных устройств. Из вены торчала игла капельницы. Палата вокруг койки поражала размерами: не каждая квартира могла похвастаться гостиной такого метража. Часть пространства была огорожена ширмой. Всё, что за ней, терялось в темноте. Всё, что ближе, едва освещалось тусклой прикроватной лампой ночника. В свете этой лампы огромные глаза богомола, внимательно разглядывавшие Павла, казались ещё одним светильником. В их глубине мерцали крохотные звёздочки. Но управдом больше не боялся Аврана-мучителя. Он не сомневался — тот, один, — тот, и никто другой, — вернул его в мир живых. А ведь прежде Павел сторонился богомола, как гильотины. А нынче — ну и мизансцена: угловатый, похожий на мумию в длиннополом пальто, богомол нависает над беспомощным управдомом, а тот — рад его видеть; тот говорит: «Спасибо!»