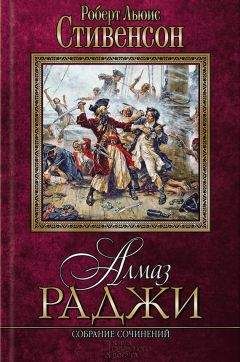Пока я говорил, старик смотрел на меня, моргая, затем опустил глаза и принялся ломать пальцы. Стало ясно, что говорить он не в состоянии.
– Идите за мной! – сказал я. – Нам надо позаботиться о себе. Давайте поднимемся на холм и еще раз поглядим на этот корабль.
Дядя повиновался, так и не подняв глаза и не возразив даже жестом. Он плелся за мной, с трудом поспевая; очевидно, он внезапно утратил способность легко и быстро передвигаться. Он с трудом взбирался на небольшие пригорки вместо того, чтобы перепрыгивать с камня на камень, как он делал это раньше. Все мои понукания оказались бессильными – казалось, ничто не может заставить его поторопиться. Только раз он жалобно, словно человек, испытывающий физическую боль, отозвался: «Ладно, ладно, я иду!..» Задолго до того, как мы достигли вершины, я уже не испытывал ничего, кроме беспредельной жалости к этому человеку. Если преступление его было чудовищным, то и наказание оказалось не менее ужасным.
Наконец мы достигли вершины главного холма и смогли оглядеться. Все кругом окутывал полумрак: черное грозовое небо низко нависло над землей и над морем, последний луч солнца угас. Задувал ветер, пока не особенно сильный, но порывистый и переменчивый. Дождь, между тем, прекратился. Прошло совсем немного времени с тех пор, как я в последний раз стоял здесь, но море уже бушевало. Громадные косматые волны с грохотом разбивались о рифы, вода стонала и рокотала в подводных гротах Ароса. Я не сразу смог отыскать взглядом шхуну – она изменила свое местоположение.
– Вот она! – наконец воскликнул я. Курс, которым шло судно, удивил меня. – Неужто они решили выйти в открытое море?.
– Именно это они и рассчитывают сделать, – подтвердил дядя, и в его голосе прозвучало что-то, похожее на тайную радость.
В этот момент шхуна легла на другой галс, после чего намерение ее капитана стало настолько очевидным, что не подлежало ни малейшему сомнению. Эти чужеземцы, видя приближение бури, решили уйти подальше от берега на широкий морской простор, но при встречном ветре, в этих усеянных рифами водах и при необоримой силе течений, их курс вел прямиком к смерти.
– Господи! Да ведь они все погибнут! – воскликнул я.
– Да, да… Непременно погибнут, – подтвердил дядя. – Им бы укрыться за Кайл-Дона, а через эти проклятые ворота им ни за что не пройти. Сам черт не провел бы их там, будь он у них за лоцмана! Да, уж… – добавил он, сжимая мой локоть, – славная будет ночка для кораблекрушения! Целых два судна за год! Ох, и попляшут же сегодня наши Веселые Ребята!
– Если бы они уже не были так далеко, – воскликнул я, – я бы сел в лодку и попытался их предостеречь!
– Нет-нет, – запротестовал дядя, – ты ни в коем случае не должен вмешиваться в такие дела! На то Его святая воля!.. – И он набожно снял шапку. – А ночь-то какая будет замечательная для такого дела!..
Нечто похожее на страх закралось в мою душу; я напомнил дяде, что еще не обедал, и предложил ему вернуться домой. Но, казалось, ничто не может заставить его оторваться от зрелища, которым он явно упивался.
– Я должен видеть все, все до конца, понимаешь, Чарли? А смотри-ка, ведь они там славно управляются! – вдруг воскликнул он, заметив, что шхуна снова сменила галс. – «Христос-Анна» не идет с ними ни в какое сравнение…
Вероятно, люди на судне начали осознавать грозившую им опасность и всячески старались спасти обреченное судно. Всякий раз, когда ветер немного стихал, они, очевидно, замечали, как быстро течение несет их назад. Они поспешно убирали паруса, убедившись, что от них в таких обстоятельствах мало проку, а громадные валы вокруг шхуны вздымались все выше и выше, вспениваясь справа и слева от шхуны над подводными рифами. Снова и снова громадный бурун рассыпался под самым форштевнем, обнажая на миг темную скалу и мокрые водоросли, повисшие на ней. Команда трудилась не покладая рук; работы всем хватало, видит Бог! И этим-то зрелищем отчаянной борьбы людей за жизнь, зрелищем, леденящим душу, мой дядя откровенно упивался. Он смаковал страшные перипетии человеческой драмы с видом знатока.
Когда я повернулся, чтобы спуститься с холма, дядя Гордон уселся на землю, его распростертые руки вцепились в вереск, а выглядел он так, словно помолодел духом и телом.
Возвратившись домой в самом тягостном расположении духа, я почувствовал себя еще более удрученным при виде Мэри. Засучив рукава, она усердно месила своими сильными руками тесто. Взяв с блюда на буфете овсяную лепешку, я сел и стал молча ее жевать.
– Ты устал, Чарли? – спросила Мэри погодя.
– Не столько устал, – ответил я, вставая, – как меня мучает и томит отсрочка, а может, и само пребывание на Аросе. Ты знаешь меня достаточно, чтобы безошибочно судить обо мне; ты знаешь, чего я хочу. И вот, Мэри, что я тебе скажу: лучше бы тебе оказаться где угодно, только не здесь.
– Я знаю только одно, – возразила она. – Я буду там, где мне велит быть мой долг.
– Ты забываешь, что у тебя есть долг перед самой собой, – заметил я.
– Уж не в Библии ли ты это вычитал? – насмешливо спросила она, продолжая месить тесто.
– Не смейся надо мной, Мэри, – мрачно отозвался я. – Видит Бог, мне совсем не до смеха. Лучше послушай, что я тебе скажу. Если мы уговорим твоего отца уехать с нами, тем лучше. Но с ним или без него, я хочу увезти тебя отсюда. Я приехал сюда с совершенно другими намерениями – как человек, который возвращается в свой родной дом. Но теперь все изменилось, у меня осталось только одно желание, одна мечта, одна надежда – бежать отсюда, бежать с этого проклятого острова!
Мэри оставила работу и взглянула на меня.
– Неужели ты думаешь, – проговорила она, – что у меня нет глаз, нет ушей? Неужели ты думаешь, что сердце мое не разрывается от присутствия в доме всей этой «бронзы» – как он ее называет, прости его Господи! – которую я хотела бы выбросить в море? Или ты думаешь, что я жила здесь и не видела того, что ты увидел за какой-нибудь час?.. О нет, Чарли, – продолжала она – я знаю, что у нас неладно, что здесь поселился какой-то грех. Какой именно и в чем он заключается, я не знаю, да и не желаю знать. Не желаю, потому что мне не доводилось слышать, чтобы зло можно было исправить, вмешавшись не в свое дело. И не требуй от меня, чтобы я бросила отца! Пока он жив, пока он дышит, я останусь рядом с ним. Он не жилец на этом свете и протянет недолго – попомни мое слово, Чарли. Я вижу печать смерти на его челе – и, быть может, это и к лучшему…
Я некоторое время молчал, не зная, что возразить, а когда наконец поднял голову, Мэри меня опередила.
– Чарли, – сказала она, – то, что велит мне мой долг, вовсе не обязательно для тебя. То, с чем мне приходится мириться, тебя не касается. Этот дом осквернен грехом и бедой, но ты здесь посторонний человек, поэтому забирай свое имущество и уходи. Уходи в лучшие места, к другим, лучшим людям, чем мы. Но если тебе когда-нибудь вздумается вернуться сюда, хоть и через двадцать лет, ты все равно найдешь меня здесь. Я всегда буду ждать тебя.