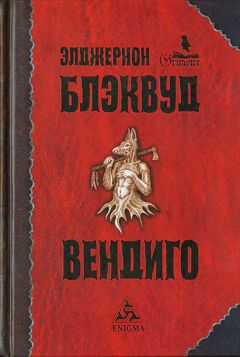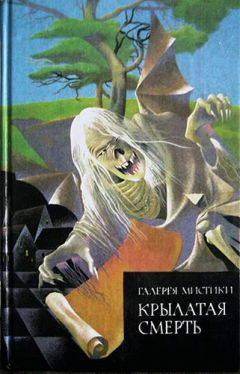— Закончи и поскорее, Уилл Генри. После этого можешь прервать свой пост. Если сержант Хок прав и не выдает желаемое за действительное, то до заката мы можем дойти до Песчаного озера.
— Мы его похороним?
— Нам было бы трудно нести его, и не годится оставлять его здесь под открытым небом. — Он вздохнул. На холодном воздухе от его дыхания изо рта вырывался пар. — Я надеялся, что при утреннем свете найду еще какие-то зацепки, но без надлежащих инструментов я мало что могу сделать.
— Что с ним случилось, сэр?
— Мы засвидетельствовали, что кто-то насадил его на сломанный ствол тсуги, Уилл Генри, — сухо сказал он. — А теперь пошевеливайся! И помни: тот, кто хочет полакомиться плодами, должен забраться на дерево.
А еще есть другая мудрость: когда есть много рук, то и работа спорится, думал я, пошевеливаясь с лопатой. Ее ручка была вдвое короче, чем у обычной лопаты, почва была каменистой и плохо поддавалась, у меня на ладонях скоро появились мозоли, а между плеч засела тупая боль. Я слышал, как на стоянке спорят мои спутники — должно быть, Хок проснулся, — их бесплотные голоса с эфемерным звоном разносились по лабиринту залов этого древесного собора.
Некоторое время спустя я увидел, как они ковыляют ко мне между деревьев с телом бедного Ларуза: сержант держал его за верхнюю часть, а Уортроп за ноги. Хок, которому из-за узости прохода пришлось идти спиной вперед, поскользнулся на мокрой от росы земле, потерял равновесие и упал, потащив за собой тело вбок и вниз, тогда как доктор остался стоять. Рана, нанесенная доктором накануне ночью, с тошнотворным хрустом разошлась, и труп развалился надвое. Верхняя половина оказалась у Хока на коленях, а голова с копной рыжих у волос — у самой его шеи, открытый рот прижался под челюсть сержанта в непристойной пародии на поцелуй. Хок бросил торс, поднялся и резко отругал Уортропа за то, что тот не опустился вместе с ним.
Честь упокоить мертвого проводника выпала мне, как обладателю единственной лопаты. Хок потерял терпение, ему до безумия хотелось покинуть эту часть леса. Опустившись у могилы на колени, он горстями сгребал в нее землю, бормоча под нос ругательства. Потом привалился спиной к стволу дерева и начал задыхаться совершенно непропорционально затраченным усилиям.
— Кто-нибудь должен что-то сказать, — заявил он. — Нам есть что сказать?
Похоже, не было. Доктор с отсутствующим видом стирал с плаща налипшие кусочки внутренностей. Я ковырял кончиком лопаты землю.
Хок отрешенно прочитал молитву Аве Мария. Меня поразило, что в его устах из слов был выхолощен всякий смысл:
— Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою…
В зарослях что-то зашуршало. На нас смотрела большая ворона, черная и блестящая, как обсидиан, с черными, горящими любопытством глазами.
— Благословен плод чрева Твоего…
Из тени выпрыгнула еще одна ворона. Потом еще одна. И еще одна. Они неподвижно стояли на своих голых ногах, и на нас смотрели четыре пары бездонно-черных бездушных глаз. Из кустов появились еще, я насчитал чертову дюжину ворон. Молчаливое скопление, делегаты от запустения, пришедшие отдать дань уважения.
— Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей.
Закончив, Хок начал плакать. Монстролог — и вороны — плакать не стали. Когда мы ушли, птицы устроили свой обряд. Обернувшись, я увидел, как они прыгают по импровизированной могиле, склевывая ошметки внутренностей, которые Уортроп стряхнул со своего плаща.
Наскоро позавтракав сухим печеньем и горьким кофе, мы снялись со стоянки. Хотя обоим мужчинам очень хотелось сделать последний переход до Песчаного озера, они сочли необходимым обследовать лес при свете дня, так что мы в течение часа бродили в поисках улик, которые могли бы помочь разгадать загадку нашей ужасной ночной находки. Мы ничего не нашли — ни следов, ни клочков одежды, ни вещей, ни свидетельств какого-либо человеческого присутствия. Словно Пьер Ларуз просто свалился с неба и так неудачно приземлился.
— Это невозможно, — задумчиво сказал наш проводник, стоя у сломанного ствола тсуги.
— Это случилось, следовательно, это возможно, — ответил монстролог.
— Но как? Как он сумел поднять тело на восемь футов над землей — если только на чем-нибудь не стоял? А если стоял, то на чем? Я думаю, их было не меньше двух, может, больше. Трудно представить, что у этой истории всего один автор. Но еще больше беспокоит не как это было сделано, а почему? Если бы мне понадобилось убить человека, я бы не стал себя утруждать, сдирая с него кожу и насаживая на кол. Зачем было делать это?
— Похоже, здесь есть ритуальный аспект, — сказал Уортроп. — Автор, как вы его назвали, мог хотеть чего-то символического.
Хок задумчиво кивнул.
— Ларуз задолжал половине города. Я разбирал не одну жалобу на его мошенничество.
— Ага. Значит, возможно, разгневанный кредитор его похищает, тащит за много миль в дебри, освежевывает его — как это поэтично! — а потом откусывает кусок его сердца.
Хок невольно усмехнулся.
— Мне это нравится больше, чем другой вариант, доктор. Подозреваю, что наш друг Джек Фиддлер скажет, что Лесной старец сделал какое-то неуклюжее движение и уронил его с высоты!
Монстролог мрачно кивнул.
— Меня очень интересует, что скажет наш друг Джон Фиддлер.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
«Я пришел за своим другом»
Его настоящее имя было Жаувуно — гижиго — гаубоу — «Тот, кто стоит в южном небе», — или, согласно записям Компании Гудзонова залива, с которой он торговал, Майсаниннине или Меснавстено, на языке индейцев кри это означает «элегантный человек».
Он был сыном вождя, Пимичикага («Стоящего в стороне от реки Поркьюпайн»), и огимаа, или шаманом, племени. Его уважали до благоговейного страха за его умения и власть — особенно над злыми духами, которые вселялись в его соплеменников во время голода. Он говорил, что убил четырнадцать этих созданий, которые «пожирают весь людской род», последней из них в 1906 году была Васакапикуай, племянница его брата Джозефа. Наградой за этот самоотверженный акт альтруизма стал его арест канадскими властями год спустя.
После того как его обвинили в убийстве и приговорили к смертной казни, Джон Фиддлер сбежал — из тюрьмы и от унизительного правосудия белого человека. Он сам привел приговор в исполнение. На следующий день после побега его нашли висящим на дереве.
Ему было без малого пятьдесят, когда он встретился со своим духовным собратом — доктором Пеллинором Уортропом, экспертом естественной философии аберрантных видов, — но выглядел гораздо старше. Зима за зимой с их жестокими морозами, невообразимые тяготы и убожество жизни в суровой субантарктической природе взяли свое; казалось, ему не пятьдесят, а семьдесят, у него была растрескавшаяся и сморщенная кожа, на лице, темном и изношенном, как старый ботинок, доминировали глаза: темные, глубоко посаженные, напряженные, но добрые. Это были глаза человека, который видел слишком много страданий, чтобы воспринимать их слишком серьезно.