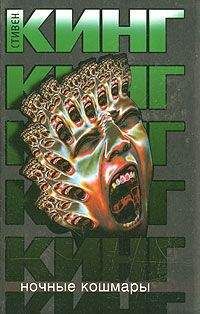— Каковы обстоятельства дела, инспектор? — спросил Холмс.
Сухим языком профессионального полицейского Лестрейд начал выкладывать факты. Лорд Альберт Халл был тираном в своей компании и деспотом в семье. Его жена смертельно боялась его, и, судя по всему, у нее были на то все основания. То обстоятельство, что она родила ему трех сыновей, ничуть не смягчило его свирепого подхода к домашним вообще и к ней в частности. Леди Халл неохотно говорила об этом, но ее сыновья не отличались подобной сдержанностью. Их папа, говорили они, пользовался любой возможностью, чтобы наводить критику на мать, насмехаться над ней или отпускать в ее адрес непристойные шутки… и все это на людях, в обществе. А когда супруги оставались наедине, он просто ее не замечал. За исключением тех случаев, добавил Лестрейд, когда у лорда Халла появлялось желание избить ее, что случалось не так уж и редко.
— Уильям, старший сын, сказал мне, что мать всегда давала одно и то же объяснение, выходя утром к столу с распухшим глазом или разбитой скулой: она, дескать, забыла надеть очки и наткнулась на дверь. Так она натыкалась на двери раз, а то и два в неделю. «Я даже не подозревал, что у нас в доме столько дверей», — сказал Уильям.
— Г-м-м, — произнес Холмс. — Приятный мужчина. И сыновья не захотели положить этому конец?
— Она им запретила, — сказал Лестрейд.
— Патология, — проворчал я. — Муж, способный избивать свою жену, вызывает чувство гадливости; жена, позволяющая такое, вызывает не меньшее отвращение и в то же время составляет загадку.
— Впрочем, в ее безумии просматривалась определенная система, — заметил Лестрейд. — Система и то, что можно назвать сознательным терпением. Дело в том, что она была на двадцать лет моложе своего мужа и повелителя. Кроме того, Халл сильно пил и любил поесть. К семидесяти годам — пять лет назад — он страдал от грудной жабы и подагры.
— Переждать, когда закончится шторм, а затем наслаждаться сиянием солнца, — образно заметил Холмс.
— Да, — кивнул Лестрейд, — но эта идея завела в ад многих мужчин и женщин.
Халл заранее принял меры, чтобы членам его семьи были известны как размеры его состояния, так и условия, оговоренные им. Родные Халла практически были его рабами.
— Связанными условиями завещания, — пробормотал Холмс.
— Совершенно верно, старина. К моменту смерти состояние Халла составляло триста тысяч фунтов стерлингов. Он даже не просил членов своей семьи верить ему на слово; раз в квартал его главный бухгалтер приходил к нему в дом и отчитывался в финансовых делах фирмы «Халл Шиллинг», хотя он сам твердо держал в руках шнурки, которые стягивали кошелек.
— Сущий дьявол! — воскликнул я, подумав о жестокосердных мальчишках, которых иногда можно увидеть в Истчипе или на Пикадилли, мальчишках, которые держат перед носом голодной собачки лакомство, чтобы заставить ее служить, а потом засовывают его себе в рот перед печальными глазами несчастного животного.
Скоро выяснилось, что это сравнение еще ближе к истине, чем я думал.
— После его смерти леди Ребекка должна была унаследовать сто пятьдесят тысяч фунтов; Уильям, старший сын, — пятьдесят тысяч; Джори, средний сын, сорок и Стивен, самый младший, получил бы тридцать тысяч фунтов. — А остальные тридцать тысяч? — поинтересовался я.
— Далее идут небольшие суммы, Уотсон: кузине в Уэльсе, тетушке в Бретани (между прочим, ни одного цента родственникам леди Ребекки), пять тысяч распределяются между слугами. Ах да, вам это понравится, Холмс: десять тысяч фунтов — приюту миссис Хэмфилл для брошенных котят.
— Вы шутите! — воскликнул я, но если Лестрейд ожидал аналогичную реакцию от Холмса, его постигло разочарование. Холмс всего лишь снова закурил свою трубку и кивнул, будто заранее ожидал этого… или чего-то подобного. — В Истсайде младенцы умирают от голода и двенадцатилетние дети работают по пятьдесят часов в неделю на текстильных фабриках, а этот человек оставляет десять тысяч фунтов кошачьему приюту?
— Совершенно верно, — улыбнулся Лестрейд. — Более того, он оставил бы в двадцать семь раз больше покинутым котятам миссис Хэмфилл, если бы сегодня утром что-то не произошло и кто-то не принял участия в этом деле.
Я смотрел на него с открытым ртом, пытаясь перемножить эти цифры в уме. Пока я приходил к заключению, что лорд Халл намеревался лишить наследства как жену, так и всех детей ради приюта для котят, Холмс мрачно посмотрел на Лестрейда и произнес нечто показавшееся мне совершенно не относящимся к делу:
— Я ведь собираюсь чихнуть, правда?
Лестрейд улыбнулся. Его улыбка показалась мне необыкновенно доброй.
— Да, мой дорогой Холмс! Боюсь, что вы будете это делать часто и глубоко.
Холмс достал изо рта трубку, которую только что хорошенько раскурил (я понял это по тому, как он откинулся на спинку сиденья), посмотрел на нее и затем выставил под дождь. Более ошеломленный, чем когда-либо, я наблюдал за тем, как Холмс выбивает из трубки влажный и дымящийся табак.
— Сколько? — спросил Холмс.
— Десять, — ответил Лестрейд теперь уже с дьявольской улыбкой.
— Я сразу заподозрил, что потребовалось нечто большее, чем тайна этой вашей знаменитой запертой комнаты, чтобы вы примчались в открытом кэбе в столь дождливый день, — недовольно пробормотал Холмс.
— Подозревайте сколько угодно, — весело отозвался Лестрейд. — Боюсь, что мне следует находиться на месте преступления — меня, видите ли, призывает долг, — но если вам так хочется, я могу допустить туда и вас вместе с любезным доктором.
— Вы единственный человек из всех, кого я встречал, — заметил Холмс, — чье настроение улучшается при плохой погоде. Неужели это как-то связано с вашим характером? Впрочем, сие не имеет значения — эту проблему мы можем отложить, пожалуй, на другой раз. Скажите мне, Лестрейд: когда лорду Халлу стало ясно, что он скоро умрет?
— Умрет? — удивленно воскликнул я. — Мой дорогой Холмс, откуда у вас появилась мысль, что он пришел к такому выводу…
— Но ведь это очевидно, Уотсон, — ответил Холмс. — Характер влияет на поведение, как я говорил уже вам тысячу раз. Ему доставляло удовольствие держать их в кабале с помощью своего завещания… — Он взглянул на Лестрейда. — Там нет никаких договоров о передаче имущества третьему лицу на ответственное хранение, насколько я понимаю. Никаких иных ограничений?
— Абсолютно никаких, — отрицательно покачал головой Лестрейд.
— Невероятно! — воскликнул я.
— Отнюдь, Уотсон: характер влияет на поведение, не забывайте. Ему хотелось, чтобы они послушно повиновались ему в надежде, что после его смерти все состояние достанется им, но он никогда не собирался так поступать. Подобное поведение, по сути дела, полностью противоречило бы его характеру. Вы согласны, Лестрейд?