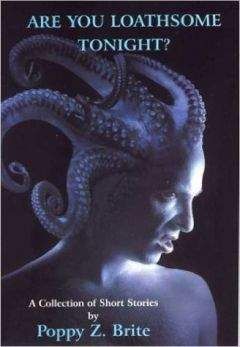лица белым гримом, обводящие глаза тенями, красящие губы в черный или кроваво-красный цвет. Они занимались любовью на кладбищах, а потом разоряли гниющие могилы в поисках распятий, и носили их в качестве украшений. Музыка, которую они слушали, была пьяняще роскошной, как похоронный венок из роз, и темной, как 4 часа утра. В суицидном унынии ее сочиняли андрогины, чьи изображения украшали стены комнаты Розали. Я мог бы рассказать этим детям кое-что о смерти. Попробуйте прожить сотню лет без настоящего тела, сказал бы я, когда нет ног, чтобы встать на землю, и нет языка, чтобы почувствовать вкус вина или поцелуя. Тогда возможно вы будете радоваться своей жизни, пока она у вас есть. Но Розали не слушала меня, когда я заговаривал на эту тему, и она никогда не представляла меня своим друзьям, влюбленным в смерть.
Если таковые вообще имелись. Я видел других таких же детей, блуждающих по Французскому Кварталу после наступления темноты, но никогда — в компании Розали. Чаще всего в свои выходные она сидела в своей комнате и пила виски: поверх потрескивающих кубиков льда наливала дюймы жидкого янтарного огня и выпивала его снова, и снова, и снова. У нее никогда не было любовника, о котором я знал бы, кроме страшного Джо Кофейная Ложечка. Кажется, по стандартам Розали он был довольно богат. Ее клиенты в клубе предлагали ей абсурдные суммы денег, лишь бы она подарила им одну ночь наслаждения более экзотического, чем могли вообразить их жабьи умишки. Некоторые из них и в самом деле могли бы заплатить такие деньги, но Розали игнорировала их чрезмерные мольбы. Не то чтобы она была против идеи секса за деньги, просто ей вообще был неинтересен секс как таковой.
Когда Розали рассказала мне о тех предложениях, которые она получала, я вспомнил о многом, что похоронил в земле в те дни, когда еще ходил по оной. Сокровища — звонкая монета и драгоценности. Богатства, нажитые грабежом, что был моим хлебом с маслом; останки убийств, что были моим вином. Еще оставались тайники, которые никто не нашел и никогда не найдет. Любой из них был бы в десять раз дороже денег, что предлагали эти мужчины.
Много раз я пытался рассказать Розали, где находятся эти тайники, но, в отличие от некоторых других ее рода, она считала, что похороненное должно оставаться в земле. Она заявляла, что мысль о сокровище, спрятанном под землей, камнем или кирпичом, когда люди каждый день проходят рядом с ним или даже над ним, привлекает ее больше, чем мысль о том, чтобы выкопать это сокровище и потратить его.
Я никогда не верил ей. Она не позволяла мне заглянуть в ее глаза, произнося это. Ее голос дрожал, когда она говорила о готах, считавших грабеж могил своего рода спортом. («Они подняли гранитную плиту весом 50 фунтов, — рассказала она однажды недоверчиво, — как они смогли сделать это, в темноте, не зная, что может ожидать их там?») Внизу, в магазинчике вуду, стоял гроб со стеклянной крышкой, со скелетом внутри, и Розали не любила заходить в магазин именного из-за этого — я заметил, как она поглядывает на него краешком глаза, словно грустные маленькие кости одновременно интриговали ее и вызывали отвращение.
Я понял, что для нее это навязчивый страх. Розали избегала всяческих разговоров о мертвых, похороненных, о копании в земле. Когда я рассказывал ей свои истории, она заставляла меня пропускать те части, где речь шла о захоронении сокровищ или тел. Она не позволяла мне описать зловоние ночного болота, слабые мерцающие огни Святого Эльма, глубокий сосущий звук, который издавала влажная земля, когда в нее втыкали лопату. Она не позволяла мне описывать похороны в море или в неглубоких могилах в байю. Розали закрывала уши руками, когда я рассказал ей о мошеннике, чей труп я подвесил на черном узловатом суку столетнего дуба. Это было запоминающееся событие — год спустя я проехал мимо этого уединенного местечка, и идеально сохранившийся скелет все еще висел там, удерживаемый на месте полосами серого испанского мха. Мох оплетал его длинные кости, каскадами спадал из пустых глазниц, мох раскрыл его челюсти и свисал с подбородка длинной серой бородой — но Розали не хотела слышать об этом.
Когда я заявил ей об этом ее страхе, она отказалась признаться в нем.
— Кто сказал, что кладбища романтичны? — вопросила она. — Кто сказал, что мне нужно заниматься выкапыванием костей только потому, что я западаю на Винэла Сент-Клера?
(Винэл Сент-Клер был музыкантом, одним из тощих траурных красавцев, украшавших стены комнаты Розали. Я не видел никаких признаков того, что она западала на него или кого-либо другого.)
— Я ношу черное только для того, чтобы все мои вещи сочетались друг с другом, — произнесла она торжественно, словно рассчитывала, что я ей поверю. — Тогда мне не придется думать о том, что надеть, когда я встаю по утрам.
— Но ты не встаешь по утрам.
— Ну тогда по вечерам. Ты знаешь, что я имею в виду.
Она откинула голову назад и языком слизала последнюю каплю виски из бокала. Это было самое эротическое ее действие, какое я когда-либо видел. Я провел пальцем вдоль гладких складок ее внутренностей. Секундное выражение дискомфорта появилось на ее лице, словно она страдала от боли. Ничего удивительного, впрочем, — виски, которое пила Розали, могло растворить кишки, как кислота. Но разговора она так и не продолжила.
Так что я наблюдал, как она пьет, пока не отключится. Хрупкие волосы рассыпались по подушке, тонкая струйка слюны из уголка рта сбегала на черное шелковое покрывало. Тогда я вошел в ее голову. Мне не нравилось делать это слишком часто — время от времени я замечал, как она вопросительно смотрит на меня на следующее утро, словно помнит, что видела меня во сне, и удивляется — как я туда попал? Если бы я мог убедить Розали выкопать один из тайников с награбленной добычей — всего один — нашим неприятностям настал бы конец. Ей бы никогда не пришлось снова работать, и она все время