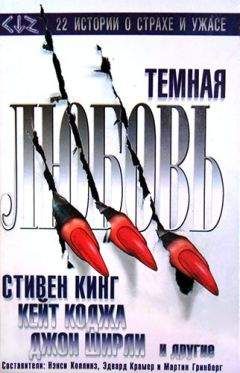— По-моему, враждебная позиция, которую вы заняли, контрпродуктивна, — сказал он. — И, Стив, если вы подумаете о том, что сейчас наговорили, возможно, вам будет легче понять, почему ваша жена настолько эмоционально сокрушена, настолько…
— Во-вторых, — перебил я его (это мы, враждебно настроенные, умеем!), — то, что вы называете меня уменьшительным именем, я нахожу оскорбительно фамильярным и бестактным. Попробуйте еще раз по телефону, и я сразу повешу трубку. Попробуйте назвать меня так в лицо, и вы на опыте убедитесь, насколько враждебна моя позиция.
— Стив… мистер Дэвис… мне кажется…
Я повесил трубку. Сделав это, я ощутил что-то вроде удовольствия — в первый раз после того, как я нашел на обеденном столе записку, придавленную ее тремя ключами от квартиры.
В тот же день я поговорил с приятелем в юридическом отделе, и он порекомендовал мне своего друга, который брал бракоразводные дела. Я не хотел развода — я был в бешенстве из-за нее, но по-прежнему любил ее и хотел, чтобы она вернулась, — однако мне не нравился Хамболд. Мне не нравилась сама идея его существования. Он действовал мне на нервы — он и его мурлыкающий голосишко. Мне кажется, я предпочел бы крутого крючкотвора, который позвонил бы и сказал: "Отдайте нам ключ от сейфа до конца рабочего дня, Дэвис, и, может быть, моя клиентка сжалится и решит, оставить вам что-нибудь сверх двух пар исподнего и карточки донора, усекли?"
Это я мог бы понять. А вот от Хамболда разило подлой пронырливостью.
Специалиста по разводам звали Джон Ринг, и он терпеливо выслушал повесть о моих горестях. Подозреваю, почти все это он уже много раз слышал раньше.
— Будь я совершенно уверен, что она хочет развода, по-моему, мне было бы легче, — закончил я.
— Так будьте совершенно уверены, — сразу же сказал Ринг. — Хамболд просто ширма, мистер Дэвис… и потенциально сокрушительный свидетель, если дело дойдет до суда. Не сомневаюсь, что сначала ваша жена обратилась к адвокату, и когда адвокат узнал про пропавший ключ от сейфа, он рекомендовал Хамболда. Адвокат не мог бы вам позвонить, это было бы нарушением этики. Предъявите ключ, друг мой, и Хамболд исчезнет со сцены. Можете не сомневаться.
Почти все это я пропустил мимо ушей. Мои мысли сосредоточились на его первых словах.
— Так вы считаете, она хочет развода, — сказал я.
— Безусловно, — сказал он. — Она хочет развода. Очень хочет. И, покончив с браком, не намерена остаться с пустыми руками.
Я договорился с Рингом обсудить все подробнее на следующий день. Домой из конторы я вернулся как мог позднее, некоторое время бродил по квартире, решил пойти в кино, не нашел ни одного фильма, который хотел бы посмотреть, включил телевизор, не нашел ни одной заинтересовавшей меня программы и опять принялся бродить из комнаты в комнату. В какой-то момент я обнаружил, что стою в спальне у открытого окна в четырнадцати этажах над улицей и швыряю вниз все мои сигареты, даже затхлую пачку "Вайсройз", завалявшуюся у дальней стенки ящика письменного стола, — пачку, которая, возможно, пролежала там десять лет или дольше, иными словами, с того времени, когда я понятия не имел, что на свете существует такая тварь, как Диана Кислоу.
Хотя в течение двадцати лет я выкуривал от двадцати до сорока сигарет в день, не помню, чтобы у меня внезапно возникло желание покончить с курением, не помню и никакой внутренней борьбы — ни даже логичной мысли, что, может быть, третий день после ухода вашей жены — не самый оптимальный момент, чтобы бросить курить. Я просто выкинул через окно в темноту нераспечатанный блок, подблока и две-три начатые пачки, которые нашел в комнатах. Затем закрыл окно (мне в голову не пришло, что было бы эффективнее выбросить не курево, а курильщика — ни разу не пришло), растянулся на кровати и закрыл глаза.
Следующие десять дней, пока я терпел худшие следствия физического отказа от никотина, были трудными, часто тягостными, но, пожалуй, не настолько скверными, как я ожидал. Меня тянуло закурить десятки… нет, сотни раз, я этого не сделал. Были минуты, когда мне казалось, что я сойду с ума, если сейчас же не закурю, а встречая на улице курящего прохожего, испытывал почти непреодолимое желание завизжать: "Отдай, мудак! Она моя!", но удерживался.
Худшие минуты наступали поздно ночью. Мне кажется (но я не уверен: мои мыслительные процессы того времени вспоминаются мне крайне смутно), будто я решил, что, бросив курить, буду лучше спать, но ничего подобного! Иногда я лежал без сна до трех часов утра, сцепив руки под подушкой, глядя в потолок, слыша сирены и погромыхивание тяжелых грузовиков. И я думал о круглосуточном корейском супермаркете почти прямо напротив моего дома. Я думал о белом сиянии флюоресцентных плафонов внутри, таком ярком, что оно приводило на память соприкосновение Кублер-Росс со смертью.[1] Видел, как оно выплескивается на тротуар между витринами, которые еще через час два молодых корейца в белых бумажных колпаках начнут заполнять фруктами. Я думал о мужчине постарше за прилавком, тоже корейце, тоже в бумажном колпаке, о блоках и блоках сигарет на полках у него за спиной, величиной не уступающих скрижалям, с которыми в "Десяти заповедях" Чарльз Хестон спускается с Синая. Я думал о том, как встану, оденусь, пойду туда, куплю пачку сигарет (а может быть, девять или десять пачек) и, сидя у окна, буду курить "Мальборо" одну за другой, а небо на востоке зарозовеет, и взойдет солнце… Я этого не сделал, но ночь за ночью в предрассветные часы я засыпал, считая не слонов, а марки сигарет: "Уинстон"… "Уинстон 100с"… "Вирджиния слимс"… "Дорал"… "Мерит"… "Мерит 100с"… "Кэмел"… "Кэмел филтерс"… "Кэмел лайте".
Попозже — примерно тогда, когда последние три-четыре месяца нашего брака, правду сказать, начали представляться мне более ясно — у меня сложилось убеждение, что мое решение бросить курить именно тогда, быть может, не было таким скоропалительным, как казалось сперва, и вовсе не безрассудным. Я не отличаюсь блестящим умом, да и особым мужеством тоже, но это решение можно счесть и блестящим, и мужественным. Во всяком случае, это не исключено: иногда мы становимся выше самих себя. В любом случае отказ от курения помог мне в первые дни после ухода Дианы сосредоточить мысли на чем-то конкретном; обеспечил моей тоске словесную форму, которой иначе она была бы лишена — не знаю, поймете ли вы. Скорее всего нет. Но не знаю, как выразить это иначе.
Прикидываю ли я, что отказ от курения в тот момент мог сыграть свою роль в том, что произошло тогда в "Кафе Готэм"? Естественно… Но это меня не трогает. В конце-то концов никто из нас не способен предсказать финальный результат наших поступков, да и мало кто пытается. Большинство поступает так, как поступает, чтобы продлить удовольствие или на время заглушить боль. И даже когда наши поступки диктуются самыми благородными побуждениями, последнее звено в цепи слишком часто обагрено чьей-то кровью.