Старуха хлестнула себя рукой по колену и, в ответ на гневный порыв ее, что-то глухо пророкотало вдали. Деревья умолкли.
— Люди — собаки! — сказала старуха. — Они бросаются рвать, не разузнав ничего. Иешуа — ваш Бог… Ты веришь в своего Бога, грек? — вдруг спросила она, стиснув зубы и подымаясь.
— Верую и исповедую! — вдохновенно откликнулся Клавдий, простирая руку к небу. — Он истинный и единый Бог наш! Но ты, сама ты, видела Христа? Говорила с Ним? Расскажи мне о Нем и отдам тебе последнее, все, что имею!!
То, о чем давно мечтал Клавдий, исполнилось: он встретил, наконец, человека, видевшего Христа.
Полные злобы слова застыли, не вылетев изо рта старухи; тяжело дыша, она несколько времени молча жгла Клавдия углями глаз.
— Да видела их всех… расскажу! Но сперва прочитай, что написал ты.
— Хорошо… изволь… давай сядем здесь… — заторопился Клавдий, усаживаясь на скамью; рядом с ним старуха не села и опять опустилась слегка поодаль на землю.
Подобие смерча из лепестков роз завертелось вблизи старухи; порыв ветра швырнул их затем в листву деревьев и чуть не вырвал свиток из рук Клавдия. Грек удержал его.
— Разве можно не верить в Него? — горячо сказал он. — Он — это любовь! Значит, ты не знаешь чудеса Его: то, что Он творил — никто не творил и не сотворит никогда.
И грек внятно прочел об излечении слуги центуриона, тещи Петра и бесноватых.
Солнце уже касалось моря; багровые лучи его, вырвавшись, как в окно, из разрыва свинцовой тучи, облегшей почти все небо, словно кровью обливали перекошенное усмешкой лицо старухи; на казавшихся слепыми зрачках ее стояли мутно-красные блики; руки ее крепко сжимали острые кости колен; она покачивалась, будто все собираясь поклониться кому-то и не выполняя этого.
Что-то холодное налегло на сердце Клавдия от вида воплотившейся злобы.
— Чудес много творят волхвы Мицраима и Бабеля[1], — бросила ответ старуха. — И еще больше лгут об этих чудесах глупцы!
Гул опять раскатился над землей. Словно распалась где-то гора и незримые силы, заключенные в ней, ринулись в пространство. День разом погас, словно задуло его. Наступила ночь. И во тьме, в воздухе и в вершинах деревьев завязалась яростная борьба; на сидевших в саду посыпались листья и ветки. Разбуженное море грозно окрикнуло ссорившихся и вал прибоя с грохотом разбился о берег.
— Пойдем в дом, — сказал, вставая, Клавдий, — будет буря — и уже ночь совсем.
Старуха жадно втянула в себя похолодевший воздух.
— Я рада грозе. Хорошо!.. Жжет в груди у меня: слишком долго Иегова заставил меня дышать вместе с людьми. Рассказывай, что ты написал об отце моем! — добавила она.
Фигуры их еле различались во тьме и, казалось, царица отдает приказ рабу своему.
Сквозь стену ветвей блеснула молния и удар грома поколебал воздух.
— Пойдем в дом, — проговорил Клавдий, собираясь уйти и притрагиваясь к плечу старухи.
Она отшвырнула руку его, словно змею, прикоснувшуюся к ней.
— Боишься?! — презрительно прозвучало во тьме. — В дом Ессея не войду никогда! Будем здесь, ты должен услышать меня; отвечай: что написал ты, справедливый Ессей, об отце моем?
Клавдий нащупал скамью и опять присел на нее.
— Женщина, я писал то, что слышал от верных людей. Правда о нем острее меча, и я не хочу тебе делать больно. Зачем рассказывать о нем? Твой отец предал Христа — довольно и этого.
— Нет! — крикнула старуха и голос ее рассек рев ветра и волн. — Нет! Говори же!
— Ты хотела сама… — с затаенной грустью произнес, помолчав, Клавдий.
Он медленно начал говорить. Он наизусть помнил все, что было написано им, но точно отяжелел язык его и долго, пока не сгорел огонь его воспоминаний о Христе, с трудом произносил он слова. Рассказал, как Иуда пошел к первосвященникам и продал им Учителя за 30 сребренников, рассказал о последней вечере с учениками, когда Христос открыл им, что один из них предаст Его. И когда описывал ночь в Гефсиманском саду, он весь дрожал и смертная тоска, с которой боролся, молясь в кровавом поту, Учитель, казалось, витала вокруг него: «Если возможно, да минует Меня чаша сия!».
Новая молния озарила сад, но грек, стоя в развевающемся белом платье своем, видел в ней свет факелов, поднятых над головами толпы: впереди, вглядываясь во мрак, шел Иуда.
— «Радуйся, рабби!..» — едва докончил Клавдий, — и… и Иуда поцеловал Его!
Голос рассказчика оборвался, он закрыл лицо руками, и слезы, горькие, бурные, потекли по пальцам его.
Старуха молчала. Ревела буря, осыпая их песком и ветвями; море с грохотом било в берег внизу.
— Грек, — выговорила, как будто немного теплее, старуха. — Слова твои — правда, но правда твоя ложь… Я расскажу тебе, как это было, — затем я и пришла к тебе, — но дай клятву мне, что впишешь в книгу свою слова мои. Даешь?
— Но что подтвердит их? Как могу верить тебе, а не тем, которых я знаю?!
— Из всех учеников Иешуа, отец один умел писать. Он вел запись деньгам и другим делам своим. Она у меня — эта запись, все поймешь из нее. Даешь мне клятву?
Мгновенный свет наполнил сад, и Клавдий успел различить какой-то свиток в руке старухи. Он бросился к ней.
— Дай мне ее!
Старуха отвела его руку.
— Клянись сперва. Клянись своим Богом, своим Иешуа, клянись головой отца своего, что напишешь правду!
— Ей, Господи, Ты видишь! — простерев руки к небу, произнес Клавдий клятву, разрешенную Христом. — Я ищу только правду! Обещаю перед лицом Его написать ее!
Старуха сунула ему свиток и он жадно схватил его и прижал к груди.
— Теперь я расскажу тебе, что было! — разделяя слова, проговорила старуха. — Думай, Ессей! Отец ведал деньгами Иешуа и учеников его: он один вел счет им. Иешуа не знал и не хотел знать, сколько имуществ приносили им люди и сколько раздавали они. Если бы хотел, Иуда каждый день мог брать себе больше 30 сребренников и вдруг продал такое золотое руно за горсть монет? Он был умный человек и… Он продал Иешуа… да, продал, продал, — жестоко подтвердила старуха, — продал за эти деньги. Но только слепые умом не видят, что не корысть привела его к Каиафе.
— Что же, злоба, месть? — прерывисто спросил Клавдий; озноб, щекоча, стал пробираться вдоль спины его.
— Месть? — словно негодную тряпку, отбросила эти слова старуха. — Он был любимейший друг Христа!
— Он?! Женщина, любимым был Иоанн!
— Да, при людях. А наедине — Иуда.
— Наедине… что?
— Да, наедине. Иуда всегда тайно приходил к нему, когда уединялся он от тех… больших детей своих. И знаешь, о чем говорили они?
— Нет… — едва мог проговорить Клавдий, чувствуя, что зубы его мелко и часто начинают стучать друг о друга. Что-то страшное, словно море, вставшее до небес, готовилось рухнуть на него из тьмы.
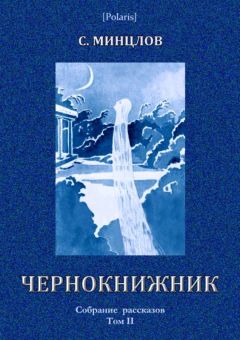


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)

