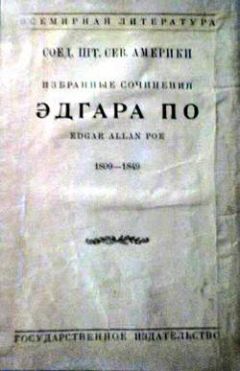Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, то, конечно, разубедитесь в этом, когда я вам расскажу, как искусно я спрятал тело убитого. Ночь близилась к концу, и я работал торопливо, но без шума.
Я вынул из пола три доски и запрятал туда труп. Затем уложил доски на прежнее место, — так тщательно, так искусно, что ни один глаз человеческий — даже его глаз — не увидал бы тут ничего подозрительного. Подмывать не приходилось, — крови не было, — ни пятнышка. Я был слишком осторожен для этого.
Когда я окончил свою работу, было четыре часа утра, — но темно, как в полночь. Едва пробили часы, послышался стук в наружную дверь. Я пошел отворить, совершенно спокойно, — теперь мне нечего было бояться. Вошли трое людей и очень вежливо отрекомендовались полицейскими чиновниками. Один из моих соседей слышал ночью крик, возбудивший в нем подозрение. Он сообщил в полицию, и они (чиновники) были посланы произвести расследование.
Я улыбнулся, — ибо чего мне было бояться? Я очень любезно принял господ полицейских. Об'яснил им, что крикнул я сам, во сне. Сказал, что старик уехал из города. Водил их по всему дому, просил искать хорошенько, наконец, привел в его комнату. Показал его сокровища в целости и сохранности. В порыве любезности, я даже принес в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь, а сам с безумной дерзостью, в сознании своего торжества, поставил свой стул на том самом месте, где было спрятано тело моей жертвы.
Полицейские успокоились. Мое обращение рассеяло их подозрения. Я чувствовал себя как нельзя лучше. Они присели и мы стали болтать о том, о сем. Вскоре, однако, мне сделалось дурно, и я бы рад был, если бы они ушли. У меня разболелась голова, в ушах зазвенело; но они все сидели и болтали. Звон в ушах усиливался, — все усиливался и становился яснее; я повышал голос, стараясь заглушить этот звук, — но он становился все громче, все яснее, — и, наконец, я убедился, что он раздается не в моих ушах.
Без сомнения, я страшно побледнел при этом открытии; однако, продолжал болтать еще развязнее и громче. Но звук усиливался, — что мне было делать? То был тихий, глухой, частый звук — точно тиканье часов, завернутых в вату. Я задыхался, — однако, полицейские еще не слышали его. Я говорил быстрее — громче, но звук усиливался, несмотря ни на что. Я встал, — начал спорить о каких-то пустяках, возвышая голос, жестикулируя, — звук усиливался несмотря ни на что. Почему они не хотели уйти? Я забегал по комнате, топая ногами, точно взбешенный словами полицейских, — звук усиливался, несмотря ни на что. О, господи, что же я мог сделать? Я бесновался, — орал, — бранился! Я схватил стул и стучал им об пол, — но звук усиливался, раздавался громче, — громче! А эти господа все смеялись и болтали. Неужели они не слышали? Всемогущий боже! — разумеется, слышали! — подозревали! — знали! — и забавлялись ужасом моим. Я был и остаюсь при этом убеждении. Но все, что угодно, было лучше этой пытки, легче этого издевательства! Я не мог выносить их лицемерного смеха. Я чувствовал, что должен или закричать или умереть, — а звук раздавался!.. не умолкая!.. все громче! громче! громче! громче!
— Негодяи, — крикнул я, — полно притворяться! Я сознаюсь!.. поднимите доски!.. здесь, здесь!.. это бьется его проклятое сердце!
Перевод М. А. Энгельгардта