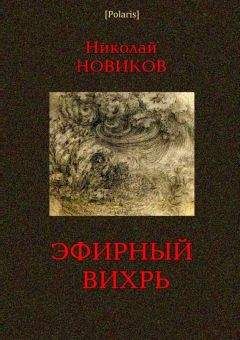— А, Андрюха… Чего там?
Я помогаю стармеху выбраться из трюма. Левчук, близоруко щуря глаза, вглядывается в сумерки.
— О! Приехали, голубчики… Хорошо… Послезавтра в Новороссе будем. Ты это… Воронова не видел, часом?
Я отрицательно качаю головой.
— Нет, Коль, не видел…
— А… Там на твоей вахте ничего не выносили?
— Коль… Это… Масло, скорее всего, еще в Бургасе продали…
— Вот, бля. Точно… Ладно, пойду, поговорю с ним.
С причала доносятся крик.
— Получил в ебло, пидорас?
Кирпич хватает за грудки шатающегося старпома и втягивает его с трапа на пароход. Старпом, прижимая руки к окровавленному лицу, что-то неразборчиво бурчит.
— Что везем, Сереж?
Секонд отрывается от радара, и, покачивая поллитровой кружкой с вином, садится рядом со мной.
— Не знаю, Андрюш… Десять тонн груза всего. Десять охранников. По документам — медикаменты…
— Наркота?
— Может быть. Скорее всего… Что с погодой?
— Паршиво, Сереж… Паршиво. Бора разгоняется. Боюсь, застрянем мы под Новороссом.
— Ага. Кэпу доложи…
— Уже…
— Как тебе попутчики?
— Да ну их…
На пароходе десять морпехов. Во главе со старшим мичманом Пятибратом. Как только мы вышли в море, я подошел к нему в кают-компании.
— Товарищ мичман?
— Чего тебе?
— Вы не знаете, случайно, что едят морские демоны?
— Ты что ебанулся, радист?
Я заглянул ему в глаза. В эти блеклые, слегка выпуклые пуговичные глаза. Я увидел в них все — прожитую зря жизнь, водочную Ниагару, низвергающуюся на забитую жену и малолетних сыновей, затопляющую маломерную квартирку, и старуху мать, побирающуюся по кладбищам, и беспросветный мрак в конце этого короткого туннеля…
— Ты чего, парень? Бля… Ты чего?
Под моим взглядом он уменьшается в размерах, уменьшается, пока не превращается в пылинку, танцующую в луче света.
— Пусть для вас это будет загадкой…
В столовой непередаваемый кумар. Смесь вонючей сухумской "Астры" и блевотины. В конуре Армагеддона пахнет лучше. Сизый дым перемещается пластами, причудливо изменяя небритые лица в фантастические маски. Жалобно скрипит видик, на экране "Панасоника" ритмично движутся огромные осклизлые члены, проникая в темные пещеры влагалищ. Тяжелое дыхание и пепсикольные бутылки с клубничным ликером грузинского производства. Есть от чего проблеваться. В полумраке не сразу замечаю Медузу. Танька, закатив глаза, сидит на коленях мордатого морпеха. Морпех пялится в экран и мнет обвисшую грудь поварихи. На его лице застыло выражение звериной скуки, пополам с отвращением.
— Тань?
Медуза приоткрывает глаза и смотрит сквозь меня.
— Тань, кто на ночную вахту будет жрать готовить?
— Андрюш… Херово мне… Разбуди Григорьевну, пусть сварит что-нибудь…
— Спишут тебя, Тань. Жаба уже вторую неделю сама пашет. Имей совесть…
— И пошли все на хуй! Не спишут… Я сразу на Мартынова в суд подам… Я-то знаю, сколько он с агентами бабла поделил на харче!
Морпех отрывается от экрана.
— Иди, мужик. Занимайся своими делами… Пусть баба отдыхает…
В столовую вваливается Ворона. Под глазами второго механика черные круги, на брови — запекшаяся кровь.
— Радист, сука… Ты Левчуку сказал за масло?
Я смотрю, как его костистый кулак, нелепо торчащий из грязной робы, поднимается для удара. Я делаю шаг в сторону и бью его раскрытой ладонью в лицо. Морпехи поворачивают плоские двухмерные лица и смотрят на нас с удивлением. Ворона корчится на палубе, размазывая грязными руками темную кровь.
— Я вас всех кончу, суки позорные!
Я приседаю и поднимаю его голову двумя пальцами за подбородок.
— Миша… Может, ты знаешь, чем питаются морские демоны? Нет? Жаль…
Бора стонет на тысячу голосов. Тысяча первый — музыкальный звон.
— Изолятор? Сука, третья антенна уже…
Стаканыч, начальник радиостанции, оправдывая свое прозвище, наливает себе полный гранчак. Выпивает одним духом, долго дышит в ладонь.
— Андрюха, глянь, а…
Вообще-то, это его вахта. Я пришел потому, что уже не в силах высиживать на жилой палубе, где перепившиеся морпехи валяют друг друга по заблеванным тамбурам, и дело того гляди, дойдет до стрельбы… Выходить наружу не охота. Я убираю бутылку с вахтенного журнала, делаю запись, и натягиваю ватник. У выхода на крыло стоит капитан.
— Что там?
— Изолятор разбился, Анатолич… Еще одну антенну оторвало…
— Запись сделали?
— Конечно.
— Хорошо. Возьми анемометр, заодно промеряешь ветер.
— Ладно.
На крыле мостика меня обжимают упругие, обжигающие щупальца боры, дыхание мгновенно сбивается, на глаза наворачиваются слезы. Море вокруг шевелит могучими мускулами волн, резкая рябь срывается, и тут же уносится на юг с бешеной скоростью. Так и есть — вся шлюпочная в осколках фарфора. Антенные канатики болтаются по ветру, какая уж тут связь. Бора рвет из рук крыльчатку анемометра, я смотрю сквозь слезы на дергающуюся стрелку — сорок метров, сорок пять… Порывами до пятидесяти. Провожу пальцем по металлу пеленгатора. Лед.
— Обледеневаем, Анатолич…
— Сам вижу… Херово. — капитан берет микрофон трансляции. — Боцману на ходовой!
Я сажусь на диван, наливаю из пластикового бурдюка вина.
— Ты, это… Андрюха… Не пей. Сейчас Стаканыч свалится… А мне на десять связь на Одессу нужна будет…
В рубку вваливается Горбунов.
Капитан долго всматривается в серую мглу.
— Боцман, как цепи?
Горбунов хватает мою кружку, выпивает залпом.
— Нормально, Анатолич…
— Ага. Давай на бак. Будем становиться ближе к берегу. Ветер усиливается.
— Понял…
Капитан поворачивается ко мне.
— Андрей, спустись, к стармеху, поспи у него на диване. Чтоб к восьми был как огурец.
— Хорошо, Анатолич. Как скажите…
В каюте стармеха людно. На столе пыхтит электрический чайник, в тарелке масло и вареная картошка. Водки нет. Это хорошо. Фэбэр протягивает мне чашку с чифиром.
— Глотни, радист. На тебе лица нет…
— Можно подумать, ты выглядишь как хризантема…
Дед водит пальцем по вахтенному журналу. Запавшие красные глаза и глубокие морщины на сером лице. Он, как и я, пятые сутки на ногах.
Я глотаю обжигающую горькую жидкость.
— Ветер усиливается… Сейчас будем сниматься…
Все смотрят на меня. Дед поднимает усталые глаза.
— И куда?
— Вперед. Под самую Малую Землю.
— На реверса, значить… — Стармех оглядывает мотористов. Останавливает взгляд на Саше Ляске.