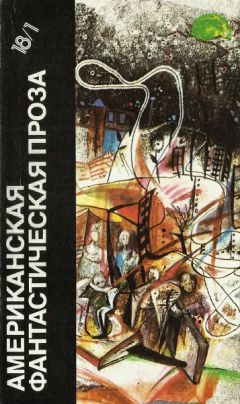— Сегодня вечером. Никаких взрывов. Никаких разрушений. Одни удовольствия. Одни развлечения. Вспомним добрые старые времена. В моем кинотеатре. Может быть, сегодня — наш последний просмотр. Может, завтра. Бесплатно. Вход свободный. Приходите, дорогой.
Он обнял меня и поплыл в тумане, как большой черный буксир.
Проходя мимо дома А. Л. Чужака, я увидел, что дверь по-прежнему широко открыта. Но я не вошел.
Мне хотелось бежать, ведь, наверно, мне звонят на мою заправочную станцию, но было страшно — вдруг две тысячи молчаливых миль прошепчут мне в ответ о смертях на залитых солнцем улицах, о красных кусках мяса в витринах carneceria[64] и об одиночестве, ужасном, как зияющая рана.
Волосы мои поседели.
И отросли на дюйм.
«Кэл, — подумал я, — милый, никуда не годный брадобрей! Я иду к тебе!»
* * *
Парикмахерская Кэла находилась как раз напротив муниципалитета и рядом с заведением, где брали на поруки. Там в окнах уже лет десять красовались спирали клейкой ленты, на которой, как цирковые артисты на трапеции, висели дохлые мухи. Туда из расположенной напротив тюрьмы входили похожие на тени мужчины и женщины, а когда они выходили оттуда, казалось, костюмы двигаются сами, под ними никого нет. С этим заведением соседствовала бакалейная лавка. Раньше она принадлежала мамочке и папочке, но они умерли, и теперь их сыночек целыми днями просиживал штаны у окна, принимая по телефону ставки на бега. Иногда ему удавалось продать жестянку консервированного супа.
Что же касается парикмахерской, то хотя там тоже можно было увидеть на подоконнике дохлых мух, больше десяти дней они здесь никогда не залеживались. И вообще уж раз-то в месяц Кэл непременно сам мыл всю свою парикмахерскую, где, неуклюже двигая руками, словно не смазанными в локтевых суставах, орудовал густо смазанными маслом ножницами, не закрывая розового рта, откуда лился поток отдающих мятной жвачкой сплетен. Вел он себя как на пасеке — в вечном страхе, что не справится с большим серебристым, жужжащим, как шмель, электрическим насекомым, которым водил вокруг ваших ушей. Иногда насекомое и впрямь вдруг выходило из повиновения, больно вас жалило и вцеплялось вам в волосы, тогда Кэл, изрыгая проклятия, дергал и тащил к себе машинку, словно вырывал зуб.
Вот поэтому, а также из соображений экономии я стригся у Кэла всего дважды в год.
Дважды в год еще и потому, что из всех парикмахеров на свете никто столько не болтал, как Кэл, никто так щедро не поливал одеколоном, никто так не злословил, не давал с таким рвением советы и не бубнил без остановки, отчего голова шла кругом. О чем бы вы ни заговорили, он знал любую тему досконально, вдоль и поперек, а объясняя вам, скажем, бездарность теории Эйнштейна, бывало, вдруг останавливался на полуслове, прикрывал один глаз, склонял голову набок и задавал свой Великий Вопрос, на который не могло быть Безопасного Ответа.
— Слушай, а я рассказывал тебе про себя и про Скотта Джоплина[65]? Да, да, Господи Боже, про нас со стариной Скоттом? Ну так послушай, ради Бога, про тот день в девятьсот пятнадцатом году. Как Скотт учил меня играть регтайм «Кленовый лист».
На стене висела фотография Скотта Джоплина, подписанная им в незапамятные времена, чернила выцвели, как на объявлении в окне леди с канарейками. На снимке можно было разглядеть очень юного Кэла: он сидел на табурете за роялем, а склонившийся над ним Джоплин накрыл своими большими черными ладонями руки счастливого мальчишки.
Этот веселый мальчуган, навсегда запечатленный на фотографии, пригнулся, стараясь охватить руками клавиатуру, готовый прыгнуть навстречу жизни, миру, вселенной, готовый проглотить их с потрохами. На его детском лице было такое выражение, что при взгляде на фотографию у меня каждый раз щемило сердце. И я старался пореже на нее смотреть. Слишком больно было наблюдать, как на нее глядит сам Кэл, готовясь задать свой извечный Великий Вопрос, как без всяких просьб и уговоров он кидался к пианино, чтобы отбарабанить свой кленовый регтайм.
Кэл.
Он был похож на ковбоя, который теперь ездит верхом на парикмахерских креслах. Представьте техасских пастухов — жилистых, обветренных, всегда загорелых, засыпающих, не снимая стетсоновских шляп, словно приклеенных к ним на всю жизнь, и душ принимающих в тех же дурацких шляпах. Таким же был и Кэл, когда он ходил кругами вокруг недругов-клиентов с оружием в руках, пожирая волосы, подрезая баки, прислушиваясь к стуку ножниц, восхищаясь своей жужжащей, как шмель, электрической машинкой для стрижки, и говорил, говорил, а я в это время воображал, будто он пляшет вокруг моего кресла, полуголый, словно техасский ковбой в нахлобученной на уши шляпе, и знал, что его обуревает одно страстное желание — рвануть к пианино и пробежать пальцами по улыбающейся клавиатуре.
Иногда я делал вид, будто не замечаю безумных, обожающих взглядов, которые Кэл бросал на ждущие его черные и белые, белые и черные клавиши. Но в конце концов, испустив мазохистский стон, я восклицал:
— Ладно, Кэл, действуй!
И Кэл действовал.
Словно его ударило током, он, неуклюже, по-ковбойски ступая, шел к пианино, причем ковбоев было сразу двое — один в зеркале, более шустрый, более бравый, чем Кэл. Оба рывком поднимали крышку пианино, открывая желтоватую зубастую пасть, горящую нетерпением запеть.
— Послушай вот это, сынок. Ты когда-нибудь, хоть когда-нибудь слышал что-нибудь подобное?
— Нет, Кэл, — отвечал я, сидя в кресле с недостриженной изуродованной головой. — Нет, — отвечал я вполне чистосердечно. — Никогда.
* * *
«Боже мой, кто же это его так безобразно обстриг?» — в последний раз прозвучало у меня в ушах восклицание старика, выбирающегося из морга.
И вот я увидел виновника: он маячил в окне парикмахерской, вглядываясь в туман, напоминая кого-то из персонажей с картин Хоппера[66] — обитателей пустых комнат, одиноких посетителей кафе или застывших в ожидании на углу улицы прохожих.
Кэл.
Пришлось заставить себя открыть дверь, и я нерешительно вошел в парикмахерскую, глядя под ноги.
Весь пол был засыпан завитками каштановых, черных, седых волос.
— Привет! — с наигранной веселостью сказал я. — Похоже, у тебя был удачный день!
— Знаешь, — ответил Кэл, не отрываясь от окна, — эти волосы валяются здесь уже пять, а то и шесть недель. И все это время никто в здравом уме не входил в эту дверь, если не считать бродяг, что к тебе не относится, идиотов, что тоже не про тебя, или лысых — это тоже не про тебя. А если кто и входил, то лишь затем, чтобы спросить дорогу в психушку. Или приходили бедняки, а это уж точно про тебя, так что садись в кресло, на мой электрический стул, и готовься к казни. Электромашинка уже два месяца как отказала, а у меня наличных нет, не могу привести ее, проклятую, в порядок. Садись.