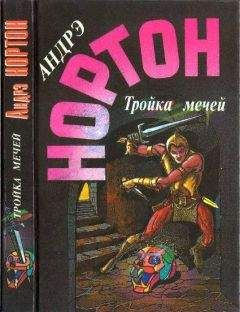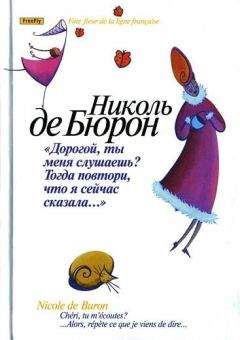Курчавый парнишка внимания не требовал и за четверть часа вполне обжился на даче Гореевых. Нимало не смутившись под взглядами Гейко и Коли, обследовал все шкафы и крынки, проверил наличие керосина в примусе. Вытер перепачканные ладони об штаны — отчего и руки, и штаны стали еще грязнее, — и приступил к приготовлению завтрака. Ловко, как заправская кухарка, налил в сковороду масла, переложил из кастрюли остывшую картошку, мешал, приговаривая:
— Тоже мне, пионеры-мичуринцы… Собаке вывалили целую банку тушенки, а сами трескают пряники с чаем. Домработница, видишь, у них, осталась в городе. Причем, кругом полно жратвы, а они супа да каши наварить себе не могут. Доиграетесь, у вас от пряников с вареньем в заду слипнется!
— Ничего не слипнется! — Коля откусил пряник. — Это антинаучная точка зрения…
— У него дед — медицинский профессор, — поддакнул Гейко, — он точно знает!
— Ладно — скажем, разовьется катар всех кишок. Ты, санитар буфета, лучше картошку мешай, чтоб не подгорела! Тимка, что твой дядя? Небось в Москву ездит: по ресторанам обедать — ужинать — танго танцевать?
Тимур задумался и пожал плечами:
— Про танго не знаю, но никогда не видел, как он ест…
Запах из сковородки был очень аппетитным, чтобы скрасить ожидание завтрака, Цыган снял со стены гитару, надел одну из мягких хозяйских шляп, напел:
…бродяга, судьбу проклиная,
тащился с сумой на плечах…
Затем ссутулился, снял и протянул к слушателям шляпу, жалостно запричитал:
— Посмотрите на слезы в моих сиротских глазах! Граждане, подайте, по мере своих трудовых возможностей, не за то, что пою. За то, что не ворую!
— Здорово! — рассмеялся Гейко. — Я думал, беспризорников больше нет…
— Беспризорников нету. Есть лица, без надлежащей опеки и попечения. Понял?
— Ты поэтому в милицию боишься попасть? — догадался Коля.
— Не. Беглый я…
— Сбежал из детдома?
— Бери посерьезней — со спецколонии для малолетних.
— Здорово! А что ты там делал?
— Глупый вопрос. Что можно делать в колонии? Четыре стены да решетка на окне, не разгуляешься. Отбывал, одним словом, причем по чистой случайности. Всего-то скушал мороженое крем-марго…
Коля от такого неожиданного поворота разговора выронил вилку, Гейко подавился, даже Тимур посмотрел на паренька с уважением и подсел к столу.
Цыган, насладившись произведенным эффектом, продолжал:
— …Стою я, значит, около Елисеевского гастронома, культурно кушаю мороженое. Тут выходит из дверей гражданочка, очень интересная. Нарядная такая: губы накрашены, прическа, платье из креп-жоржета, сумочка на ремешке болтается. В руках несет сетку — там коробка конфет, вина бутылочка, еще сверток. С колбасой, наверное, или с сыром, — рассказчик отрезал себе кусок сыра и отправил в рот. — Я хвать! Сетку у нее из рук вырвал и бежать. За мной не угонишься. Только гражданка вытащила из сумки наган да шмальнула по ногам! Вот и вся история. Гражданочке потом орден дали, в газете статья про нее была. Нет — ясно, что за мелкого хулигана вроде меня, Цыгана, даже срок не дадут, тем более орден. Просто гражданочка оказалась полярная летчица, — паренек вытащил из-за пазухи и бережно разгладил газетную вырезку. Под заголовком «Покорители Арктики» помещалась фотография улыбчивой молодой женщины в летном шлеме и подбитой мехом куртке.
— Врешь! — охнул Гейко.
— Зачем мне врать? — Цыган подкатил штанину и продемонстрировал шрам на ноге. — Такая гражданочка разве промахнется? — Он мечтательно вздохнул. — Интересно, если приехать в город Ленинград, дадут в справочном бюро адрес только по имени отчеству и фамилии, без года рождения? — и добавил, предвосхищая любые вопросы, что никаких писем летчице он писать не собирается. Что, он похож на колхозных активистов, которые пишут всесоюзному старосте Михаил Ивановичу Калинину про рекордные надои молока?
Если он узнает адрес, то найдет способ обворовать гражданочку! Обязательно!
Цыган склонился к окну и с романтической улыбкой понюхал цветок герани.
Тимур дослушал и тоже улыбнулся — он придумал, как помочь новому знакомому проскользнуть мимо милиции и сесть на станции в поезд. Нужно превратить его из малолетнего хулигана в образцового учащегося-общественника.
Время перевалило за полдень, и солнце во всю светило через пестрые ситцевые шторы. Женя проснулась одна в пустой комнате. Сестра еще не возвращалась, хотя отправить телеграмму много времени не нужно. Ну и пусть. Скорей бы папа приехал!
Она нехотя подошла к зеркалу, стала разглядывать покрасневшие от слез глаза и распухший нос. Засаленные волосы висят как сосульки.
Пусть?!
Нет!
Девочка вскочила, показала зеркалу язык, вытащила из-под кровати таз, поставила греться кастрюлю с водой. Стащила перепачканный сарафан, расплела косички. Она собиралась вымыть голову…
Утром Арман отправился в клуб.
Именно утром — потому что здешний поселковый клуб не имел ничего общего с привычными британскими или континентальными клубами, где достопочтенные джентльмены наслаждались покоем, неспешной беседой, тонким ароматом сигар и удобством высоких кожаных кресел.
Клуб располагался в здании бывшей господской конюшни, был украшен алыми транспарантами внутри и снаружи. По вечерам здесь показывали кино, устраивали танцы или проводили аматорские[14] концерты, которые здесь называют «самодеятельность». Днем любители разных искусств готовились к ним в небольших группах — «кружках». Арман увидал на столбе объявление о наборе в кружок «оперного пения» и заглянул в клуб. Седенький, культурный аккомпаниатор был ему несказанно рад. Подходящего костюма для исполнения арии Риголетто у него в запасниках не имелось. Но верный последователь Мейерхольда и Таирова[15] — он тут же предложил Арману новаторскую трактовку образа! Из отгороженной листом фанеры костюмерной появились заплатанная рубаха, штаны, приставная деревянная нога, косматый парик. Все эти замечательные атрибуты сохранились от постановки пьесы Горького «На дне» и вполне могли создать образ желчного и гонимого уродца — шута, обреченного на позор и смерть.
Арман пришел в восторг и попросил оставить ему костюм на некоторое время — чтобы привыкнуть к необычному гриму…
Смертные далеки от совершенства. Они тщеславны, алчны, завистливы, ленивы — человеческие недостатки можно перечислять до бесконечности. Чтобы жить и быть сытым, надо всего лишь научиться пользоваться человеческой ущербностью. В этом искусстве ему нет равных — среди живых и проклятых.