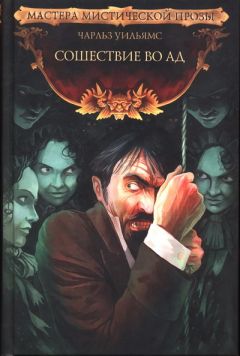Вместо этого с совершенно отчетливым, хотя и промелькнувшим стремглав осознанием того, что он делает, он отверг радость. Он предпочел гнев, и тот не замедлил явиться; гнев привел с собой зависть, и она затопила его с головой. Он яростно скомкал газету, затем расправил ее, просмотрел снова – заметка осталась на месте. Его соперник не только преуспел, но преуспел за его счет; ибо какова вероятность получить дворянское звание еще одному историку в ближайшие годы? Раньше он даже не задумывался об этом. И вот возможность явилась и тут же исчезла, предоставив событию посмеяться над ним. Другая возможность – порадоваться за коллегу – исчезла не родившись. В гневе он поклялся раз и навсегда, навсегда, навсегда возненавидеть это событие и всякие события вообще.
Он бездумно подошел к окну и выглянул наружу. Снаружи за стеклом обрисовалась грузная туша чудовищной алчности. Ненависть так раздулась, что начала душить Уэнтворта. Тогда он быстренько переадресовал ее своему сопернику. Пусть лучше он задыхается и дергается, это лучше, намного лучше! Он со жгучим интересом заглянул в дверь смерти и увидел перед собой тело, корчащееся в петле. Сэр Астон Моффатт… Сэр Астон Моффатт… Уэнтворт вперил взгляд в бледный призрак мертвеца в этом полупризрачном доме и… не увидел его. Мертвец бродил по своему собственному Холму, которому не суждено стать Холмом Уэнтворта. Ибо Уэнтворт предпочел другую смерть; и она была ему дарована.
Пока он стоял там, вплотную к миру первой смерти, отказавшись от всякой радости и вообще от всех событий, кроме тех, которые бередили раны его эгоизма, он наконец-то услышал долгожданные шаги. Только они и могли укротить его гнев; вот они и явились. В мгновенно нахлынувшем новом возбуждении он забыл об Астоне Моффатте; пропало куда-то видение болтающегося в петле тела. Он стоял и вслушивался, затаив дыхание.
Топ-топ… – шаги звучали на дороге. Топ-топ… – остановились у калитки. Он услышал тихое звяканье. Шаги приблизились. Наконец Уэнтворт разглядел поодаль женскую фигуру. Он понял: случилось то, что должно было случиться. Она пришла.
Он поднял окно – осторожно, даже слишком осторожно, чтобы не казалось, будто он торопится, чтобы не казалось, будто он хочет ее. Он перегнулся через подоконник и тихо окликнул женщину: «Это вы?» Ответ его озадачил, потому что это был голос Аделы, и все же больше, чем Аделы, полнее, богаче, приятнее. Она сказала: «Я здесь». Уэнтворт еле расслышал ответ, но она уже манила его рукой. Он тоже призывно махнул рукой, но она не шелохнулась, и в конце концов ему пришлось вылезти в окно – это оказалось достаточно легко даже для него – и подойти к ней. Теперь вблизи он опять удивился. Это была Адела, и все же не она. Ее рост и ее жесты. Сходство его успокоило, хотя он все же не понимал этой легкой несхожести. На мгновение он подумал, что это кто-то другой, какая-то женщина с Холма, кто-то, кого он видел, но не запомнил имени. Подойдя почти вплотную, он понял, что это никак не может быть Адела. Та Адела никогда так не походила на настоящую Аделу, как эта.
Романтическая любовь нередко превращает возлюбленную реальную женщину в обожаемый символ, наделяя ее существование славой и величием, а настоящая жизнь настоящей женщины отделяется от нее, становится чем-то искусственным и неважным. Это же существо поразило его, им нельзя было не восхищаться. Озадаченный, он заколебался.
– Как вы долго, – упрекнула женщина.
– Кто вы? Вы не Адела, – резко произнес он.
– Адела! – прозвучал спокойный уверенный ответ, и Уэнтворт понял, что настоящей Аделы мало, что эта Адела и должна отличаться от той Аделы, если хочет подойти ему. Если у той Аделы были какие-то отношения с Хью, то для его Аделы никакие отношения ни с каким Хью просто немыслимы. Почему-то раньше такая простая мысль не приходила ему в голову. Сейчас это стало вдруг так ясно! Он всмотрелся в женщину перед собой и почувствовал, как в нем шевельнулась свобода.
– Вы звали меня? – спросил он. И она ответила:
– По-моему, это вы помахали мне?
– Не думаю, что вы можете быть мне чем-то полезны, – сказал он, глядя ей в глаза.
Она рассмеялась: смех напоминал Аделу, только звучал намного лучше: богаче, довольнее. Адела так не смеялась. В ее смехе всегда проскальзывала этакая пренебрежительность.
– Вы мало о себе думаете, – сказала она.
Слова были нежные, заботливые, и он тут же понял, что это правда. Он никогда не думал о себе много. Он хотел быть добрым. Хотел быть добрым к Аделе; хотел отдать ей себя. Слова женщины принесли ему облегчение, словно он действительно отдал себя. И тогда, продолжая отдавать, он спросил:
– А если бы я больше думал о себе?
– Вы скоро поймете, – пообещала она. – Давайте пройдемся.
Он не понял первой фразы, но молча повернулся и пошел рядом с ней. Что он поймет? Что можно было бы понять, думай он больше о себе? То, что сказала настоящая Адела, а вовсе не та, что ходила рядом с каким-то Хью. Конечно, он понял бы настоящую Аделу, существующую отдельно и принадлежащую только ему. Именно в этом и заключалась трудность: она все время принадлежала по-настоящему только ему, но… почему-то не принадлежала. А вот если бы он больше думал о ее истинной сущности, а не о том, что она все время где-то болтается, где-то там, где ей совершенно нечего делать, тогда бы она шла сейчас рядом с ним; тогда Хью мог оказаться ненастоящим, а она – настоящей, тогда бы он обрел покой, и нес бы в себе ее запах, и всю ее, только ему предназначенную. Вот что было бы, думай он больше о себе.
Слабая дымка поднималась вокруг, пока они шли под густыми ветвями деревьев, поднимаясь по Холму к той Аделе, которую он таил глубоко в сердце. Его вела лукавая женщина, говорившая что-то без умолку. Уэнтворт все замедлял шаги и мучительно думал о том, как ускользнуть от той Аделы, которая с Хью; о том, что надо где-то и как-то найти настоящую Аделу, его Аделу, ибо то, чего он хотел, всегда и везде должно принадлежать ему; он всегда это знал, только почему-то так никогда не получалось. Только здесь, в странной дымке под деревьями, рядом с этой женщиной, все стало ясно. Дымка все прояснила.
– Сюда, – сказала она.
Он вошел; деревянная калитка распахнулась и захлопнулась за ним.
Было совсем темно. Рука скользнула в его руку и легонько ее сжала. Она потянула его вперед и немного вбок. Он спросил: «Где мы?» – но ответа не получил, только подумал, что слышит тихий звук текущей воды, журчанье и плеск. На фоне этого звука не стоило повторять вопрос. Тьма была наполнена тишиной; сердце его перестало гореть, хотя он слышал его биение в такт с журчаньем и плеском воды. Он не помнил, чтобы сердце его билось так громко; почти как если бы он находился внутри своего тела, прислушиваясь к нему там. Оно билось бы еще громче, подумал он, если бы чувства не были убаюканы и притуплены. Наверное, если бы он попал внутрь своего тела, его чувства тоже притупились бы, хотя как бы он туда попал и как выбрался… Если бы захотел выбраться. Зачем? Зачем покидать это убежище, самое надежное из всех? Но он не мог уйти туда полностью, ему мешала рука, ведущая его по какой-то извилистой тропке. Он знал, что тропа эта растянулась на сотни ярдов, или на миллионы труб, или трубочек, или тропок, или веревок, или еще чего-то, свернутых петлями, многими петлями, в его теле; он не хотел бы зацепиться за них ногой, но он не споткнется, потому что рука ведет его.