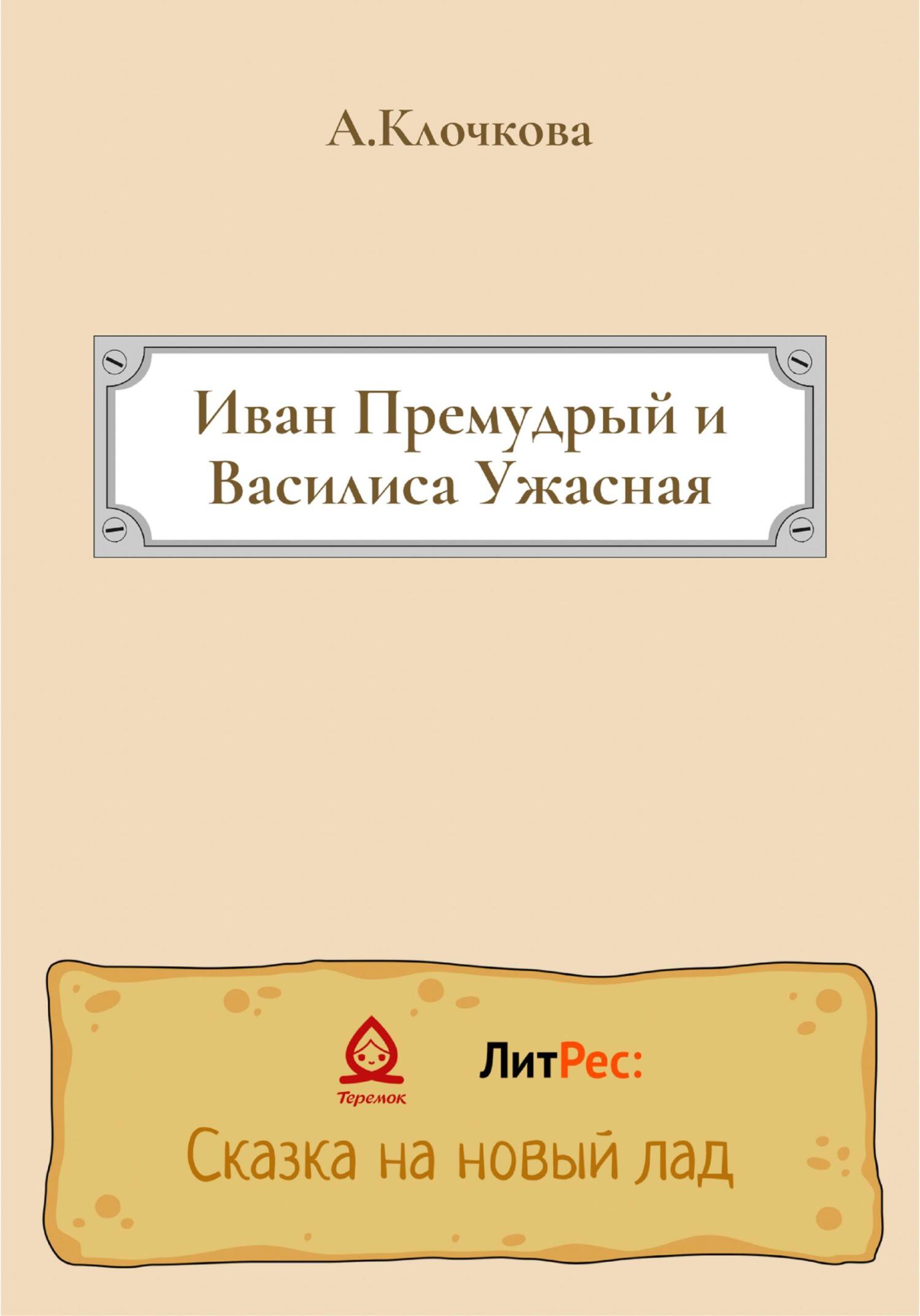Так что — вовсе не отсутствие дяди и двоюродного доводило Валерьяна Эзопова до полного душевного изнеможения. Нет, изводили его вещи совершенно иные.
Во-первых, конечно же, неведение. По прикидкам Валерьяна, хоть кто-то из здешнего прихода должен был бы уже увидеть, что произошло на погосте. Теперь-то время для этого пришло! А, увидев, этот кто-то должен был бы прийти мысли, что нужно сообщить обо всем церковному старосте — Митрофану Кузьмичу, то есть. Конечно, идеально было бы, чтобы сразу обнаружились бренные останки Митрофана Кузьмича. Может быть, даже — вместе с останками его сынка-недоумка, Ивана. Тогда увидевшие это побежали к исправнику, а заодно — оповестили бы о страшных находках обитателей купеческого дома на Губернской улице. Но — ни одного такого вестника в алтыновский дом не нагрянуло.
И вот тут уже появлялось «во-вторых». Второй вещью, из-за которой Валерьян не находил себе места, было то, что ни одного горожанина он так и не увидел на всей Губернской улице — с того самого момента, как он пустил в ход свое заклятье устранения. Валерьян даже выбегал со двора — раза три или четыре выбегал. И все смотрел: не покажется ли на улице хоть один прохожий? Но — эта часть Живогорска обезлюдела, как гимназический двор во время вакаций. И Валерьян уже проклинал мысленно букиниста, продавшего ему за бешеные деньги красный гримуар. Продавшего — но не потрудившегося объяснить: какова истинная сила слов, содержащихся в нем? Так что теперь Валерьян понятия не имел, когда сойдет на нет сила заклятья, сотворенного им? В главное — сойдет ли она на нет вообще?
Валерьяна окатывало холодом всякий раз, как он дозволял себе об этом думать. И, уж конечно, не из-за того, что он стал бы скучать по обитателям Губернской улицы. Да пропади они хоть навеки, но только — не сейчас. Ибо сейчас ему нужны были свидетели — на этом строился весь его комплот. Нужен был хоть кто-то, кто подтвердил бы: молодой человек, одетый, как обычно одевался на людях Иван Алтынов, шел к Духовскому погосту перед самым исчезновением своего отца: купца первой гильдии и церковного старосты Митрофана Кузьмича.
2
Иванушка довольно смутно помнил то время, когда погиб его дед. Ему самому тогда и пяти лет еще не сравнялось. Однако общее ощущение: как дом наполняли слухи, тревожные перешептывания и суетливые слезы прислуги — до сих пор давило на его память непонятным ему самому грузом. И в памяти его будто ниоткуда временами возникали фразы, произносившиеся по углам дома теткой Софьей Кузьминичной, приказчиками, кухарками, Маврой Игнатьевной и всеми кто тогда в доме был: «Нашли под окнами…», «Имел свидание…», «Седина в бороду — бес в ребро…» И — произносимое совсем уж втайне: «Подозревают, что наложил на себя руки…»
Но — маленького Иванушку все эти фразы тогда нисколько не напугали. Он даже и смысла-то их, по правде говоря, не уловил. А вот что напугало его до такой степени, что он просыпался потом по ночам с криком и в слезах, было случайно им услышанное: «Сломал себе спину батюшка ваш — да будто закостенел. Так и не сумели его выпрямить. Придется в таком виде его отпевать…»
Сказано это явно было либо Митрофану Кузьмичу, либо его сестрице Софье Кузьминичне. И говоривший — возможно, приходской священник, — уж точно понятия не имел, что его слова услыхал еще и малолетний внук погибшего купца. А потому не мог предположить, что этот образ: скрюченный дед, которого тащат прямо на руках в церковь — будет потом преследовать Иванушку во снах много лет.
Однако — не бывает худа без добра. И, сидя в промозглом колодце, с человеческой бедренной костью в руках, Иван Алтынов возблагодарил судьбу за то, что услышал когда-то рассказ о скрюченной спине покойного деда Кузьмы Петровича. Иначе — в жизни не решился бы Иванушка на то, что сотворил теперь.
Что было сил он застучал костью по боковине колодца и прокричал:
— Дедуля, помоги мне! Это я, Ванятка! Я не могу отсюда выбраться!
На последнем слове голос его сорвался и он дал петуха — как бывало несколько лет назад, его Иванушкин голос ломался. И этот тоненький вскрик прозвучал совсем уж по-детски. Возможно, именно это и сыграло решающую роль. Или, быть может, то, что купеческий сын вспомнил то имя, которым называл его когда-то дед: Ванятка. Да еще и прибавлял обычно со смешком: Ванятка на белой лошадке. Эту лошадку-качалку, которая стала Иванушкиной любимой игрушкой, дед ему и подарил. И теперь согбенная тень у края колодца зашевелилась — подалась вперед. А затем Иван Алтынов увидел лицо.
Смутно увидел, по счастью. Подступавшие сумерки милосердно его затемняли. Но — и той картины, которая ему открылась, Иванушке хватило, чтобы он выронил свою костяную дубину. А его горло будто самой собой издало сдавленное оханье. Да, он знал, что Кузьму Петровича положили в гранитный саркофаг с согнутой спиной. Но — почему глаз-то у него оказался только один?! И — отчего лицо дедово сделалось темно-коричневым, словно у какого-нибудь эфиопа?
Впрочем, все эти мысли пронеслись у Иванушки в голове в одну секунду. И он даже не успел испугаться. Да что там: после событий сегодняшнего дня у него и сил-то не осталось на то, чтобы пугаться. А в следующую секунду его дед отпрянул от колодца — так что согбенная тень пропала из глаз. И место одноглазого купца занял Эрик Рыжий — у которого оба глаза были в целости и горели зеленоватым огнем. Котофей издал короткое мяуканья — но в нем не было ни страха, ни угрозы. Странное дело: на Иванушкиного деда присутствие кота не подействовало никак. Если Эрик и был для кого-то стражем загробного мира, то явно — не для него.
«Да и дедуля той — явно не такой покойник, как все здешние…» — успел подумать Иван. И тут рядом с кошачьей головой снова возникла согбенная тень Кузьмы Алтынова. Иванушкин дед больше не склонял лицо над створом колодца — слава Богу, что не склонял! Вместо этого он медленным, но уверенным жестом показал Ивану: Отстранись!
Иванушка отплыл к противоположную изгибу колодезной стенки, неловко подгребая онемевшими руками и ногами. И его дед тут же кинул что-то вниз — его единственный глаз явно был зрячим.
То есть, это Иванушка в первый момент решил, что его восставший из мертвых дед кинул что-то — какой-то канат с утяжелением на конце. Вроде тех, какие купеческий сын видел как-то раз на представлении в губернском цирке. Вот только — никакой это оказался не канат. Да и откуда ему было взяться тут — в алтыновской усыпальнице? Вниз, к самой воде, выметнулась рука — неимоверно удлинившаяся конечность Кузьмы Петровича Алтынова. Руку эту покрывала такая же темно-коричневая, эфиопская кожа, что и лицо Иванушкиного дедули. И — на этой руке обнаружилось столько локтевых изгибов, что Иванушка мгновенно сбился, когда попробовал их сосчитать. Причем сгибались они в разных направлениях и под неодинаковыми углами — словно это было чудовищное подобие портняжного метра. А то, что Иван Алтынов принял за утяжеление на конце каната, оказалось сжатой в кулак ладонью его деда.
Иванушка услышал, как наверху тревожно замяукал Эрик: котофею тоже явно пришлось не по душе то, что он увидел. Однако абрис кошачьей головы от края колодца не пропал: Рыжий никуда не ушел — ждал, что будет происходить дальше с его хозяином.
— Дедуля, — прошептал Иванушка едва слышно, — да кем же ты был на самом деле?..
И тут же сам себя одернул: почему это — был? Вот он, его дед, здесь и сейчас — не был, а есть! И рука его медленно разжимается, изгибается в предпоследнем локте и простирается прямо к внуку Ванятке!
Непроизвольно Иванушка дернулся, пытаясь увернуться — но только ударился спиной о каменную стену колодца. А затем — рука его деда намертво вцепилась в ворот Иванушкиной рубахи — промокшей насквозь, но остававшейся весьма прочной. По крайней мере, когда купеческий сын дернулся во второй раз, нитки в вороте затрещали — однако не порвались. И — рука деда потянула его вверх.