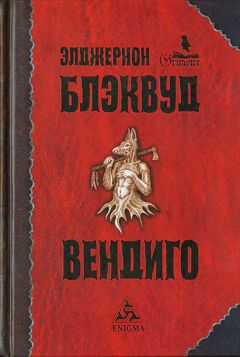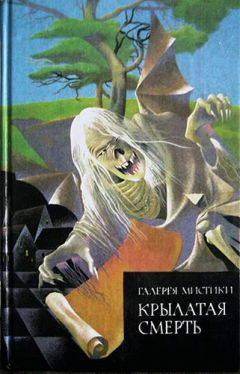— Я его понесу, — сказал доктор.
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
«Это может сломить разум человека»
Наше бегство в Рэт Портидж было болезненно медленным. Уортроп часто просил остановиться, чтобы проверить жизненные реакции Чанлера и попробовать влить в него еще воды. Ход замедлял и сержант Хок, вернее то, как сержант Хок разыскивал в тумане свои вещи. В течение дня туман становился все гуще, бесцветные испарения делали невидимой тропу и населяли лес тенями и призраками, в которых воображение рисовало картины близкой смерти. В этом царстве глухих звуков и скудного света даже наше дыхание вырывалось из ртов и сковывалось под ногами.
К четырем часам свет почти совсем пропал. Мы остановились на ночлег не более чем в семи милях от берегов Песчаного озера и не доходя еще нескольких миль до могилы Пьера Ларуза. Доктор опустил свою ношу на землю и обессиленно прислонился к дереву. Он передохнул только минуту или две и снова начал суетиться над Чанлером: вытирал ему лоб, приподнимал голову, чтобы влить в горло немного воды, громко звал его — но Чанлер не приходил в себя. Пока не стало совсем темно, я собрал дрова для костра. Хок проверил наши скудные припасы и сказал, что их хватит еще на пять дней. После этого нам придется питаться тем, что мы сможем добыть в лесу.
— Я планировал пополнить запасы у Песчаного озера, — сказал он в свою защиту, видя, как при этой дурной новости доктор недоуменно поднял бровь. — Вы мне не говорили, что мы похитим человека.
Сержант был не похож сам на себя. Его глаза постоянно бегали, и он все время облизывал губы.
— Как вам удалось его найти? — спросил он.
— Фиддлер. — Я подумал, если Джон жив, то Фиддлер может его навестить и, скорее всего, пойдет к нему, пока мы спим. Моя догадка оказалась правильной. Вскоре после двух он вышел из вигвама, и я пошел за ним. Они держали Джона в вигваме на северном краю деревни, вдалеке от всех остальных, как и следовало ожидать. Это обычная практика у туземных народов: устраивать больной «дом», чтобы изолировать инфицированных членов племени от всех остальных. После этого все стало делом времени и подготовки. У вигвама не было стражи. Мне только пришлось дождаться, когда Фиддлер ляжет спать.
— Как по вашему, что произошло? — Хок смотрел через вход в палатку, где лежал Чанлер, в свете костра его белое одеяло было едва видно.
— Я могу только предполагать, — устало ответил доктор. — Или он сам приковылял в лагерь, или кто-то его нашел и принес. Видимо, он заблудился, разойдясь с Ларузом — тот признал это в письме Мюриэл, — и это едва не убило его.
— И убьет, если вы не знаете, что с ним, — согласился Хок. Он стрельнул глазами на доктора. — Мюриэл… Это его миссус?
— Да.
— Хмм.
— Что?
Сержант взглянул в мою сторону.
— Ничего, — сказал он.
— Это явно не так.
— Я просто прочистил горло.
— Вы не прочищали горло. Вы сказали так: «Хмм». Я хочу знать, что вы имели в виду.
— Я ничего не имел в виду. Хмм. Только это, доктор. Просто хмм.
Уортроп фыркнул. Он вытряхнул чайную гущу в тень за костром и нырнул в палатку к своему пациенту. Хок снова посмотрел на меня с кривой усмешкой.
— J’ai fait une mâtresse y a pas longtemps, — тихо запел он.
— И прекратите это отвратительное пение! — крикнул доктор.
Сержант подчинился бесцеремонному требованию Уортропа и больше не пел во время нашего бегства назад к цивилизации. Я говорю «бегство», потому что это и было бегство, хотя и мучительно медленное. Мы от чего-то спасались — и несли с собой то, от чего спасались.
На следующее утро мы проснулись под зловеще-серым небом. В полдень пошел слабый снег, покрывая тропу пудрой, которая быстро становилась скользкой; доктор несколько раз чуть не упал со своей драгоценной ношей. Сержант предлагал сменить его, но каждый раз наталкивался на категорический отказ. Доктор, казалось, ревновал свою ношу.
Было холодно и тихо, ни единого дуновения ветра, а снег, как и туман, приглушал звуки. Мы шли через сводчатые палаты коричневого и белого, через пустынные залы, утратившие цвет и лишенные жизни. Ночи наступали внезапно. Дневной свет не уходил, а скорее исчезал. Тьма была истинным лицом пустынности, ее сущностью.
Эта тьма тяготила нас больше, чем однообразный пейзаж на протяжении многих миль, пройденных по тяжелой тропе. Наши души немели от нее, как от холода немели наши пальцы на руках и ногах. Угольно-черная, густая, осязаемая тьма смеялась над нашими робкими попытками избавиться от нее и давила на нас с удушающей силой. Я начинал завидовать Джону Чанлеру и его лихорадочному забытью.
И я тревожился за доктора. Даже худшие дни на Харрингтон Лейн, когда он забивался в свою постель и часами оставался в ней, отказываясь от сна и еды, пребывая в такой меланхолии, что мог только дышать, — даже те дни казались яркой весной по сравнению с тем, что он испытывал сейчас. И он переносил эти испытания не ради себя, а ради кого-то другого, что было поразительным открытием для меня, который всегда считал его самым эгоистичным человеком на всем континенте. Его лицо вытянулось, глаза глубоко запали, плащ висел на нем, как на вешалке. Он начинал походить на человека, которого нес.
Я уговаривал его есть и отдыхать, бранил, как родитель ребенка, и напоминал, что он не сможет помочь своему другу, если доведет себя до такого же состояния. Он сносил мои выговоры и редко выходил из себя, исключая один памятный случай, когда он поносил меня более четверти часа. Это могло бы продолжаться и дальше, но Хок проинформировал его, что если он не заткнется, то он всадит ему пулю в затылок.
После того как были съедены последняя галета и последний кусок копченой грудинки, сержант закинул на плечо винтовку и ушел в лес. В тот день мы не двинулись с места. Ближе к сумеркам Хок вернулся — с пустыми руками. Он бросил оружие и свалился около костра, что-то бормоча, беспрестанно вытирая рот тыльной стороной ладони и облизывая губы.
— Ничего, — прошептал он. — Ничего. Никогда такого не видел. Ничего нет на целые мили.
Он поднял глаза к небу.
— Даже ни одной птицы. Ничего. Ничего.
— Ну, у нас все же есть мы, — сказал доктор утешающим тоном, пытаясь поднять нам настроение. — Я имею в виду вариант отряда Доннера[8].
Хок тупо посмотрел на него, открыв рот, а я подумал, что доктор, который прекрасно знал пределы своих возможностей, должно быть, был совсем не в себе, если хотя бы попытался пошутить. Это было так же нелепо, как если бы человек попытался взлететь, махая руками.