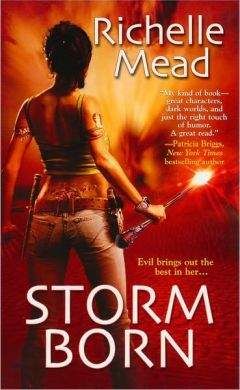— О! Тебе стоило позвонить — мы прислали бы за тобой машину! Ты ведь Лелистра? Какое очаровательное имя! О, нам бы и в голову не пришло обрезать его до «Лел»!
Вот так они, Кокерстоны, меня и приветствовали. Бесчисленное семейство, только отца им не хватает. Наверное, сбежал — уж я бы на его месте непременно сбежала. Скалящиеся загорелые сыновья и скалящиеся дочери, напудренные до белизны, и громогласные тетушки, и дядюшка, похожий на мрачного демонического Билла (его так и зовут), и мать, миссис Кокерстон, или Ариадна, как мне велено было ее называть. Ей уже исполнилось шестьдесят, но во всех отношениях она скорее напоминает пятнадцатилетнюю. При виде нее даже я ощутила безотлагательную потребность присмотреть за ней, отогнать ее подальше от коктейлей — ей еще слишком рано их даже пробовать — и, возможно, представить какому-нибудь моложавому старичку.
На крыльях беспокойства я взлетела вверх по лестнице и приземлилась на ковер в ослепительно-белой спальне с кроватью, не уступающей размерами бейсбольному полю.
Я попыталась дозвониться до Энтони, но он ловко укрылся на деловой встрече. Тогда я оставила ему сообщение: «Папа, я собираюсь тебя убить».
Позвольте, я опишу вам Реконструкторский замок.
Это устремленная вверх тысяча футов угольно-синего камня, с башнями, сводами, балконами, террасами, лестницами внутри и снаружи, похожими на застывшие ступенчатые водопады, — причем некоторые из них такие же скользкие. Стекла слегка тонированы и с внешней стороны выглядят, словно дымчатые очки. Изнутри они окрашивают дневное небо в зеленоватый, а ночное — в фиолетовый с розовыми звездами. Местность вокруг является частной собственностью и полна деревьев, озер и оленей. Поскольку на дворе октябрь, самцы всю ночь ревели в лесах и будили меня, словно пожарная сирена, примерно каждые полчаса.
Все вместе это представляло собой огромный тематический парк.
Темой, по всей видимости, являлись сами Кокерстоны или их фантазии о себе. Ощущение поддельной старины и иллюзорной древности было настолько сильным, что даже не казалось смешным.
И всем гостям пришлось облачиться в одежду, которую нам выдали хозяева: женщинам — в ниспадающие платья, мужчинам — в костюмы готического стиля, ничего позднее 1880-го или ранее 1694-го. Все вместе мы напоминали беженцев из рухнувшей киностудии, и этот дом очень для нас подходил.
Прошло два дня и две ночи, полных рева.
В день бала все или, по крайней мере, молодежь были вынуждены провести целое утро и послеполуденные часы в горячих ваннах, подвергаясь массажу, умащению кремами, педикюру и маникюру, завершившихся мытьем головы и причесыванием — словно кошки перед выставкой. Затем пришло время облачения в наряды, самые экстравагантные из тех, что нам пришлось здесь носить.
Я зевала без перерыва, возлагая вину за это на вопли неугомонных оленей, не дававших мне спать.
Платье, выбранное для меня Ариадной, оказалось белым. Как она отметила: «Превосходно смотрится с твоими чудными светлыми волосами». Волосы у меня такие от природы, но парикмахер каким-то образом заставил их побледнеть еще сильнее — напугал, наверное. И кожа у меня тоже белая. Я люблю солнце, но загар на нее не ложится. В белом платье я растворилась, совершенно ненамеренно, превратившись в своего рода гипсовую статую без особых примет, за исключением глаз, которые у меня, хвала Господу, темно-серого цвета.
«Мне стоит появиться, — решила я, — поиграть в их глупые игры, протанцевать несколько менуэтов и вальсов — что-либо более современное сюда не допустят — и изящно ретироваться, как только получится, а позже утверждать, что я оставалась там до самого конца».
Мне неплохо удаются такого рода штуки. То ли помогает эгоистичный инстинкт самосохранения, то ли моя более покладистая сторона не желает кого-то оскорбить или задеть. Понятия не имею, да меня это и не волнует. Главное, это работает: я исчезаю, остальные не огорчаются.
Так что я спустилась по скользкой, как стекло, лестнице и вошла в бальный зал, похожий на вывернутый наизнанку свадебный торт — кругом все сахарная глазурь и позолота, с виноградными гроздьями канделябров. И огляделась.
Вот тогда-то я его и увидела. И узнала. Или, скорее, поняла, что он такое.
Снизу вверх по позвоночнику пробежало то особенное колкое электричество, что становится заметным на кошке, когда ее мех встает дыбом.
Как нарочно, мимо прошествовала Ариадна.
— Кто это? — будто невзначай спросила я. — Мне нравится этот костюм.
— Да, разве он не великолепен? Но, не сомневаюсь, ты отметила, что он и сам весьма привлекателен, — с воодушевлением набросилась на меня она.
— Да, — спокойно ответила я. — Довольно правильные черты лица.
— И превосходное мужское тело. Сильное, как у танцора. А его волосы…
— Они действительно такие длинные, или это парик?
— Нет. Все его собственные. Только обычно Ангел собирает их в хвост. Как романтично он смотрится, не находишь? Я не удивлена, что ты обратила на него внимание. Но должна предостеречь тебя, Лелистра, он холоден, словно снег. Холоден, словно… — Она принялась подыскивать еще более криогенное существительное.
— Словно очень холодный снег, — услужливо предложила я.
— Ну, мм… да. Холоднейший из холодного снега. Все мы отчасти сходим по нему с ума, и две мои дочери им увлечены, но он всего лишь неизменно любезен. Но с другой стороны, Ангел ведь сопровождает кинозвезд. Вечно нарасхват. Он прибыл лишь час назад.
— Вот как!
— Ему самому столько раз предлагали роли…
— Но он всякий раз холодно и любезно отказывался, — закончила я.
Я постаралась, чтобы в моем голосе не было ни капли раздражения. Разумеется, он не стал бы сниматься ни в каком фильме. Стоило лишь взглянуть на него, чтобы понять: рассвет ни за что не застанет его бодрствующим, а палящее солнце — вне укрытия.
Он был Вампиром.
Потом кто-то окликнул Ариадну, и она уплыла прочь по морю людей, танцующих польку.
Ангелу — что за воодушевляющее имя! — могло быть сколько угодно лет, от двадцати до шестисот. Или даже больше, но выглядел он примерно на двадцать два. Его волосы были черны, словно он искупал их в ночи, царившей за стенами дома, а глаза еще чернее. Он был бледен, даже бледнее меня, но без помощи каких-либо косметических средств. Лицо его выглядело привлекательным — нет, прекрасным — и жестоким. Такую маску он, очевидно, носил, чтобы заставить нас держаться поодаль, а в тех, кто решится приблизиться, вдохнуть робость и почтение на все то время, пока он выбирает себе жертву на эту ночь, а может, и на все выходные. Едва ли больше, поскольку вполне очевидно, что он никого еще не убил, полностью выпив кровь. Он мог заставить своих подружек молчать или попросту забыть о случившемся, но, разумеется, если бы ни одна из них не вернулась домой, это не прошло бы незамеченным. Надетый на нем затейливый костюм мог бы принадлежать европейскому дворянину восемнадцатого века — весь черный, вышитый, высокие черные сапоги сияют узором из стальных перьев, а камзол — пышными кружевными манжетами чистейшей снежной белизны, вероятно подобранными сообразно его манере держаться.