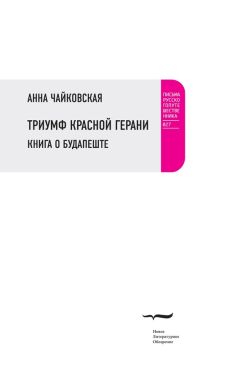— Я тебе, Витек, расскажу сперва о Дарье Вадимовне. Потому что иначе, вдруг не поймешь. Наташу-то я встретил в поселке сегодня, вернее, Васька прибежал с поручением от нее. И ты должен больше знать, заране, чтоб не пропал. Понял?
— Да.
— А так, оно бы и не надо мне. Тебе вот надо.
— Хорошо.
Витька увидел, как меркнет, вместе с заоконным зимним солнцем, уходит свет с лица собеседника, становятся резкими морщины на лбу и от крыльев носа к углам рта. Отвел глаза и приготовился слушать, глядя на его руки с недокуренной сигареткой.
— Я тогда из рейса вернулся. Мореходное училище, Седовку закончил. Штурман. Не кот начихал, фуражка, погоны золотом, рейсы уж были. Возвращаться не думал, просто мать навестить хотел. Обижалась, что все один, нет внуков, а уж почти тридцать. Думал, заберу ее в город, как очередь на квартиру подойдет, пусть там в уюте.
А тут — Даша. Тоже гостюет. Я тебе и рассказывать не буду, какая была. Она ведь такой и осталась. И ноги, и волосы. Глаза. Только вот тогда совсем шальные глаза у ней были. Как ножиком резала. И сразу по сердцу. Знала это. Девчонки за ней табуном ходили, в рот смотрели. А то как же, городская, каблуки, сумочка. Не ходит, танцует в облаках. Ну и ребята. А меня не было-то давно, как уехал в Седовку в семнадцать, так два раза и налетал всего, на недельку. Прибрежные наши по-другому стали жить, пока не было меня.
Николай Григорьич вмял окурок и пепельницу и дождался, когда исчезнет тонкий дымок.
— В общем, хороводил тут Яшка Каюк. Молод, лет двадцать ему тогда было, но уж опыта набрался. Уехал в город в училище, да через год сел за разбойное нападение. Так называется, кажись. В парке с дружками напали они на прохожего, избили сильно и вытрясли все, что было. Пока шел суд, мать его чуть не телегами краснюка возила в город, икры перетаскала, дом продала — вытащить сыночку. А он, еще до суда, избил и порезал подружку свою. И вроде бы все знают, что виноват, но так дело развернули, что получил три года, два всего отсидел. Вернулся — хорек-хорьком. Все боялись. Потому что девке лицо суродовал, только за слова какие-то о себе. И тюрьмы не боялся. Плевать ему, где. Там где он, там везде наведет свои порядки, есть такие гады. Встречал?
Витька вспомнил Карпатого, как тащил тот через голову дорогую шелковую тишотку и тыкал пальцем в пороховую синеву куполов на круглых мышцах, гордился.
— Встречал…
— Понимаешь, самое плохое, не на понт берет. Опасный по правде. Его только убить и все. А ежели не в драке, то как убьешь? Это надо решиться — жизни человека лишить. Хоть и не человек он. А и в драке такого не убить. Он там царь. У него, когда дерется, сердце поет, понимаешь? Умеет. И не дурак. Был бы дурак, давно б уже споткнулся и голову сложил. Так вот… Когда я приехал, весь что индюк, важный, они с Дашкой типа силами мерялись. Она им вертеть хотела, а он ее подмять, сломать. Ух, горда была! Все могла спалить, как вспыхнет… И думать переставала вовсе. Но — сильная и потому силы встречной хотела. Биться хотела. Дура.
— Ну, что вы так.
— Молчи! Дура, конечно! С мужиком пошла по-мужски биться. А сама — женщина, да какая… Не тому ее в институтах учили. Интеллигенция… Как посмел, да извинись немедленно… Там-то оно, может, и годится. Но не с Яковом.
Месяц оба поселка только на них и смотрели. Да. Как длинный футбол такой. То один гол, то другой, только вот матерь ее плакала всю дорогу. Да тебе Наташка может и рассказала уже?
— Нну… Она немного сказала. О том, как искали вы ее. Три дня.
— Ну так и еще одна дура. Время прошло, уж и правды не помнит никто, и не нужна она, правда. Все перетолкуют. Яшка тогда закрутил амуры летом с москвичкой. А к зиме, когда бились они с Дарьей, москвичка возьми и приедь. Неделю он с ней из койки не вылезал, только пацанов своих гонял за икрой, да за коньяком. Дашку, вроде как и забыл. Унизил, стало быть. Отвернулся. Ей бы дуре такой, взять тихо билет и уехать. …А на меня она и смотреть тогда не хотела. Я ее, Витька, ненавидел просто. Как Яша ей по рогам, так она ко мне, под руку зацепит и таскает, в кино, на танцы, черная вся от ярости, я рядом, будто шкаф на ходу, хуже собаки. А как свистнет он у калитки, то меня и вовсе — в угол ногой.
— Знаете, дядь Коля, по мне, это свинство просто.
— Может и свинство. А может — звезды так сошлись. Плохой тогда год был, совсем плохой, шторм за штормом, гробы, драки пьяные. Будто шел с моря туман и всех травил. Вот… Неделю она, пока он там с москвичкой, молча ходила, ни на кого не смотрела. А пацаны ей свистели вслед. И показывали, знаешь, руками показывали грязное, чтоб видела. Она просто чернела с лица. И не потому, думаю, что на Якова с его мадамочкой злилась, а потому что показать не хотела, что страдает. В общем, через неделю, когда мать ей билет привезла из города и на стол положила, поднялась она утром и пошла к Яшкиному дому. Думаю, сломалась тогда, и только хотела за волосы курву столичную из его койки вытащить и ногами, в грязи. Утром дело было, никто и не видел. Я видел, потому что совсем себя потерял, в старой батиной шубе приходил к ее забору и там ночевал, пока не развиднеет. Как пес. Изболелся весь.
— Еле светало тогда. Шла быстро, голова поднята, никуда не смотрит. А я позади, от дома к дому перебегал, прятался. Чуть не плакал, знал ведь ее, боялся. Думал, оттащу, если что. Яшка тогда сам уже жил, в дедовом доме. Мать и не пускал туда.
Окно почернело и кипы бумаг на столе мутно светили белесым своим светом. Григорьич поднялся. Задернул шторку и зажег маленькую лампу. Вернулся в кресло и сел, опираясь локтями в колени. Смотрел в пол. Слова падали войлочными шарами, укатывались под стол и диван. Из коридора тикали старые часы.
— Как она подошла к двери, уже и руку протянула, дверь ей навстречу — сама. Стоит Яков, скалит из темноты зубы. Она только вскрикнула «где!?», он ее за руку и внутрь. А я к окну, сердце бухает, хоть вырывай его и собакам, сил никаких уже. Вижу, свет включился, домишко маленький, она бегает из комнаты в кухню, а там пусто. Уехала стало быть, столичная, то ли ночью, то ли с вечера еще. А может и ране, просто Яшка мозги Дарье пудрил, ломал, стало быть. Как рыбу вываживал, да приманивал. И смотрю, села без сил на диванчик и плачет. Смеется и плачет, от счастья, видно. Яков ей сразу в стакан коньяку и на колени перед ней, сапожок снимать. Один, второй. А я как увидел ее руки на затылке яшкином, как пальцы путает в его волосах… Повернулся и к дому. Сутки пил. Ничего не знал и не хотел знать. Протрезвел и думал, уеду. Уеду и забуду. Работа.
На свет вышел, а все село гудит. Пропала Даша. Ушла из дома и никто ее не видел больше. Второй день уж пошел. Я к скотине этому. Знал, к нему ведь пошла. А нет его. В сельсовете сказали, мол, Яков с командой на катере — ищут, побережье осматривают. Шторм, народу много болталось тогда в море, ждали погоды, чтоб на берег вернуться, так что и отправлять на поиски не было кого. Этот сам вызвался. В команде еще трое его выродков, такие же, разницы только, что не за себя, а за него любому глотку вырвут.