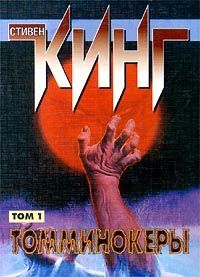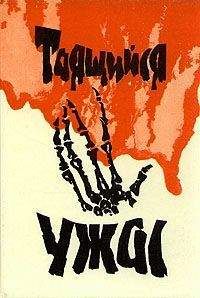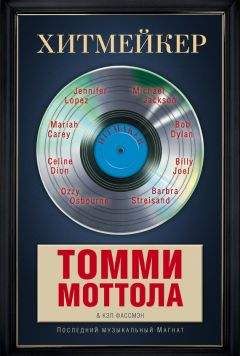Однажды, в том году она заснула на занятиях — это был Конкурс Фрешмена. Он был мягок с ней, потому что уже тогда немного любил ее, и еще он видел огромные круги у нее под глазами.
— У меня проблемы с ночным сном, — сказала она, когда он после занятий задержал ее на минуту. Она еще была полусонной, иначе ни за что не стала бы продолжать; это было сильное влияние Энн, которое было влиянием Лейтон-стрит. Но она была как под наркозом и существовала одной ногой в сонной темноте, как за стеной. — Я почти засыпаю, а потом я слышу ее.
— Кого? — спросил он мягко.
— Сисси… мою сестру Энн то есть. Она скрежещет зубами, и это звучит как к-к-к…
Кости, — хотела сказать она, но потом у нее начался приступ истерического плача, который напугал его очень сильно.
Энн.
Больше чем что-либо еще, Энн была Лейтон-стрит.
Энн стала
(стукнул в дверь)
Кляпом для нужд и амбиций Бобби.
О'кей, думал Гард. Для тебя, Бобби. Только для тебя. И начал читать «Лейтон-стрит» так гладко, как будто он проводил у себя в комнате дневную репетицию.
Эти улицы идут оттуда, где камни
Торчат из битума, словно головы
Детей, не закопанных до конца…
читал Гарденер.
«Что за миф это?» — спрашиваем мы, но дети
Играющие в мяч, играющие в лошадки,
Бегают вокруг и только смеются.
Это не миф, — отвечают они, — не миф,
Эй, — говорят они, — еб твою мать,
Здесь нет ничего, кроме Лейтон-стрит,
Здесь нет ничего, кроме маленьких домиков,
Ничего, лишь подъезды, где наши матери
Перемывают косточки своим соседям.
Где-то дни становятся все горячее,
А на Лейтон-стрит слушают радио,
И птеродактили реют между антеннами
И там говорят эй, еб твою мать!
Говорят эй, еб твою мать!
Это не миф, — отвечают они, — не миф,
Эй, — говорят они, — еб твою мать,
Здесь нет вокруг ничего, кроме Лейтон-стрит.
Это, — они говорят, — как если б ты смолк
В вечном безмолвии дней. Еб твою мать.
Когда мы уходим от этих пыльных дорог,
Магазинов с рожицами на кирпичных стенах,
Когда ты говоришь: «Я достигла конца
Всего, что можно, и даже слышала
Скрежет зубов, скрежет зубов в ночи…»
И хотя он читал стихотворение очень долго даже для себя самого, он совсем не «играл» его (он обнаружил, что некоторые вещи почти невозможно не делать в конце такого тура): он заново осознал его. Большинство из тех, кто пришел этой ночью на чтения в Нортистерн, даже те, кто был свидетелем грязного, отвратительного конца вечера, были согласны, что выступление Гарденера было лучшим той ночью. Довольно многие из них утверждали, что это было лучшее, что они когда-либо слышали.
Так как это было последнее выступление, которое Джим Гарденер давал в своей жизни, это был, пожалуй, неплохой способ развлечься.
Ему понадобилось около двенадцати минут чтобы прочесть все это, и когда он закончил, он выжидающе всмотрелся в глубокий и четкий колодец тишины. У него было время подумать, что он вообще никогда не читал эту проклятую вещь, что это была только яркая галлюцинация за секунду или две до потери сознания.
Затем кто-то встал и начал равномерно и тяжело хлопать. Это был молодой человек со слезами на щеках. Девушка рядом с ним тоже встала и начала хлопать, и еще она кричала. Потом они все стояли и аплодировали, да, они кричали ему бесконечно долгое «О-о-о», и на их лицах он видел то, что каждый поэт или мнящий себя поэтом надеется увидеть, когда он или она оканчивает чтение: лица людей вдруг пробудились от грез ярче любой реальности. Они выглядели ошеломленными, не вполне уяснившими, где они находятся.
Он видел: они не все стояли и аплодировали; Патриция Маккардл сидела чопорно и прямой в своем третьем ряду, ее руки плотно сжались на коленях поверх вечерней сумочки. Ее губы были стиснуты. Зубы теперь не блестели; ее рот превратился в маленькую бескровную рану. Гард утомленно забавлялся.
Что касается вас, Пэтти, настоящая пуританская этика заключается не в том, чтобы паршивая овца бралась судить выше отведенного ей уровня посредственности, верно? Но в вашем контракте нет пункта о непосредственности, не так ли?
— Спасибо, — бормотал он в микрофон, трясущимися руками сгребая свои книги и бумаги в неаккуратную кучу, и затем почти уронил их все на пол, уходя с подиума. Он упал на свое сиденье за Роном Каммингсом с глубоким вздохом.
— Боже, — шептал Рон, еще аплодируя. — Мой Бог!
— Хватит хлопать, осел, — прошептал Гарденер.
— Будь я проклят, если я перестану. Когда вы это читали, это было просто блестяще, — сказал Каммингс. — Я куплю вам потом бутылку.
— Сегодня вечером я не пью ничего крепче содовой, — сказал Гарденер и знал, что это ложь. Головная боль уже вползала назад.
Аспирин не вылечит это, перкодан не вылечит. Ничто не укрепило бы его голову, кроме огромной порции спиртного. Скоро, скоро наступит облегчение.
Аплодисменты начали наконец замирать. Патриция Маккардл глядела с кислой признательностью.
Имя жирного дерьма, представлявшего каждого поэта, было Трепл (хотя Гарденер предпочитал называть его Трептрепл), и он был доцентом английского языка, возглавлявшим группу спонсоров. Он принадлежал к типу людей, которых его отец называл «шлюхинсын».
Шлюхинсын после чтения устроил для «Каравана», Друзей Поэзии и английского отделения факультета вечер у себя дома. Он начался около одиннадцати. Поначалу все было натянуто: мужчины и женщины стояли неудобными маленькими группками с бокалами и бумажными тарелками в руках, поддерживая обычный вариант осторожной академической беседы. Когда Гард учительствовал, этот словесный понос убивал его бесполезной тратой времени. Так было раньше, но сейчас — в меланхолии — в этом чувствовалось что-то ностальгическое и приятное.
Его внутренний голос говорил, что натянутый или нет — это Вечер с Возможностями. В полночь этюды Баха почти наверняка будут заменены Претендентами, а разговоры о занятиях, политике и литературе сменятся более интересными вещами: факультетский «Ред Соке», кто-то пьет слишком много, и это излюбленное во все времена — кто с кем трахается.
Там был большой буфет, и поэты курсировали туда, как пчелы, твердо следуя Первому правилу Гарденера для выступающих Поэтов: «Хватай на халяву». Он видел, как Энн Делэней, пишущая тощие, навязчивые поэмы о сельских рабочих Новой Англии, широко раскрыла челюсти и набросилась на огромный сэндвич, который она держала. Майонез, цветом и консистенцией походящий на бычью сперму, струился между пальцами, и Энн негалантно слизывала его с руки. Она подмигнула Гарденеру. Слева от нее прошлогодний обладатель приза Готорна Бостонского университета (за длинную поэму «Тайные мечты 1650–1980») с большой скоростью набивал рот зелеными маслинами. Этот парень, по имени Джон Эвард Саймингтон, сделал довольно длинную паузу, чтобы положить горсть завернутых кружочков сыра «Бонбел» в каждый карман своего вельветового спортивного пальто (с заплатами на локтях, разумеется), и затем вернулся к маслинам.