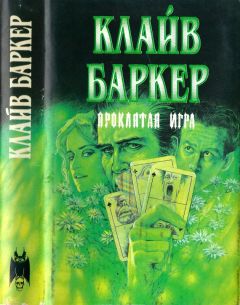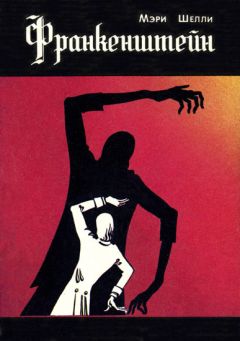Он тщательно установил стул, встал на него и дотянулся до веревки. Петля висела, пожалуй, высоковато, и ему пришлось встать на цыпочки, чтобы натянуть ее вокруг своей шеи, но, после некоторых маневров, он полностью ее приладил. Как только он почувствовал, что узел начинает врезаться в его кожу, он прочел свои молитвы и оттолкнул стул.
Паника последовала незамедлительно, и его руки, которым он всегда доверял, предали его в этот жизненно важный момент, взметнувшись с боков вверх и пытаясь растянуть веревку, пока она натягивалась. Первоначальный рывок не сломал его шею, но его хребет, как гигантская гусеница, вшитая в его спину, извивался сейчас как только мог, доводя его ноги до спазмов. Боль занимала здесь незначительное место: настоящий ужас шел от неспособности контролировать себя, от запаха, который шел от его чистых брюк, в которые опорожнялись его кишки без его позволения, от пениса, напрягшегося без единой похотливой мысли в его издыхающей голове; его пятки копошились в воздухе в поисках опоры, пальцы все еще скребли веревку. Все его тело внезапно стало не принадлежащим ему, оно вдруг запротестовало; оно не хотело умирать.
Но попытки были напрасны. Он спланировал все слишком тщательно, чтобы в последний момент все сорвалось. Веревка была натянута крепко, подергивания гусеницы ослабевали. Жизнь, этот незваный гость, уйдет очень скоро. Его голова была полна разных шумов, словно, как он думал, он находился под землей и слышал все звуки на поверхности. Звуки от движения, грохот гигантских скрытых водостоков, рокот осыпающихся камней. Брир, великий Пожиратель Лезвий, знал землю очень хорошо. Он слишком часто хоронил в ней мертвых красавиц, заполняя свой рот землей, как покаяние за вторжение, прожевывая ее, пока он засыпал их бледные тела. Сейчас земные звуки уничтожали все — его взмахи, музыку из радио, шум транспорта за окном. Свет тоже исчезал: кружева темноты опутывали комнату, предметы в ней пульсировали. Он знал, что крутится — это кровать, за ней шкаф, теперь раковина — но их силуэты медленно гасли.
Внезапно свет погас, и смерть опустилась на него. Ни потоков сожалений, сопровождающих конец, ни моментально прокручивающейся истории всей жизни, покрытой виной. Просто темнота, и еще более глубокая темнота, и уже темнота настолько глубокая, что ночь казалась бы ярким светом по сравнению с ней. Вот и все; как просто.
Нет; не все.
Совсем не все. Комок нежелательных ощущений опустился на него, вторгаясь в интимность его смерти. Легкое дуновение согрело его лицо, раздражая нервные окончания.
Неприятное дыхание навалилось на него, врываясь в его вялые легкие без малейшего на то приглашения.
Он сопротивлялся реанимации, но его Спаситель был неумолим. Вокруг него снова стала проступать комната. Сначала свет, потом очертания. Теперь цвет, хотя и блеклый и грязный. Он услышал свой кашель и почувствовал запах собственной рвоты. Отчаяние навалилось на него. Неужели он даже не может нормально убить себя?
Кто-то назвал его по имени. Он помотал головой, но голос послышался снова и теперь его поднятые глаза увидели лицо.
И, о! все было не кончено: совсем нет. Это не было доставкой в Ад или в Рай. Никто из их обитателей не мог бы обладать тем лицом, в которое он смотрел.
— А я-то думал, что уже потерял тебя, Энтони, — сказал Последний Европеец.
Он поднял стул, который Брир использовал для попытки самоубийства, и сел на него, выглядя так же незапятнанно, как всегда. Брир попытался сказать что-нибудь, но его язык оказался слишком толстым для губ, и, когда он пощупал его своими пальцами, они окрасились кровью.
— Ты прикусил язык в своем энтузиазме, — сказал Европеец. — Ты пока что не сможешь есть или говорить нормально. Но это пройдет, Энтони. Время лечит все.
У Брира не было сил, чтобы подняться с пола; все, на что он был способен, это лежать здесь, с петлей, все еще охватывающей его шею, уставясь на обрывок веревки, все еще остававшийся прикрепленным к крюку. Очевидно, Европеец, просто обрезал веревку и позволил ему упасть. Его тело начало трястись; его зубы стучали, как у бешеной обезьяны.
— Ты в шоке, — сказал Европеец. — Ты полежи пока… Я приготовлю чай, ты не против? Сладкий чай — это то, что надо.
Это потребовало усилий, но Бриру удалось перебраться с пола на кровать. Его брюки были испачканы спереди и сзади: чувствовал себя омерзительно. Но Европеец не обратил это внимания. Он прощал все, и Брир знал это. Ни один человек, из тех которых встречал Брир, не обладал такой способностью прощать; он чувствовал себя униженным, находясь в компании и под опекой такой спокойной гуманности. Это был человек, который знал тайную причину его крушения и никогда не сказал ни одного запрещающего слова.
Приподнявшись на кровати и чувствуя, как признаки жизни вновь возвращаются к его разбитому телу, Брир наблюдал, как Европеец готовил чай. Они были совершенно разными людьми. Брир всегда испытывал благоговейный ужас перед этим человеком. Разве не Европеец сказал ему однажды: «Я последний из своего племени, Энтони, так же, как и ты последний из своего. У нас много общего». Брир тогда не сразу понял значение этих слов, но со временем он начал их понимать. «Я последний истинный Европеец; ты последний истинный Пожиратель Лезвий. Мы должны помогать друг другу». И Европеец следовал этому, спасая Брира в некоторых случаях, поощряя его незаконные деяния, уча его, что быть Пожирателем Лезвий — стоящее дело. В обмен на это образование он едва ли что-то просил, несколько небольших услуг, не больше. Но Брир не был настолько доверчив. Он предполагал, что придет время, когда Последний Европеец (пожалуйста, зовите меня мистер Мамулян, говорил он обычно, но Брир никогда не мог заставить свой язык выговорить забавное имя) в свою очередь попросит помощи. Это не будет просто странная работенка или две, как он просил до этого; это будет что-то ужасное. Брир знал это и боялся этого.
Умирая, он надеялся избежать уплаты долга, которая будет востребована. Чем дольше он был вдали от мистера Мамуляна — а прошло уже шесть лет со дня их последней встречи, — тем больше воспоминания об этом человеке пугали Брира. Образ Европейца не поблек со временем — напротив. Его глаза, его руки, мягкость его голоса оставались кристально ясными, хотя вчерашние события меркли. Будто Мамулян никогда полностьюне исчезал, словно он оставлял в голове Брира маленькую часть себя, которая протирала картинку, когда она пылилась от времени, и следил за каждым движением своего слуги.