Пустота молчала, не притворяясь ничем. И с восторгом понимания Онторо подняла руки, погружая их в пустой черный мрак.
Мать Тьма кивнула ей своей пустотой, открывая свое настоящее лицо.
…
— Благодарю тебя, мать Тьма.
* * *
В маленькой хижине, сложенной из неровных глиняных кирпичей, солнце пятнало стены, трогая светлыми пальцами грубый деревянный стол с рассыпанными по нему яблоками, скользило по крутому боку щербатого белого кувшина. Легло серым пятном на большую руку, что протянулась из угла, нащупала откатившееся к краю стола яблоко и сжала его в черных пальцах.
Нуба сел, отбрасывая домотканое покрывало в ноги, и повертел яблоко в руках, разглядывая зеленые глянцевые бока. Приступ лихорадки, дергающий его несколько последних дней, шел на убыль, оставляя холодный пот, непрерывными струйками текущий по вискам и бокам, и слабость в руках и ногах. Ему захотелось есть, впервые за время болезни. А Матары нет, видно ушла на рынок или искать работу по дому. Как она справлялась, пока лежал в беспамятстве?
Нуба нахмурился, пытаясь сосчитать дни. Он приносил деньги или еду каждый день и этого хватало как раз, чтобы прожить следующий. А когда лихорадка свалила его, как она жила, что ела? И верно приносила какие-то снадобья, — на столе в беспорядке стояли пузыречки мутного стекла, глиняные мелкие кувшинчики и лежали тряпочные узелки. Дотянувшись до одного, он понюхал и чихнул. Душ-трава, смешанная с порошком из змеиных шкурок. Вряд ли она бросила его, чтобы уйти в плоские луга на берегах мелких прудов, это день пешком в одну сторону. Да и змей не сама ловила.
За прорезанным в стене окошком, прикрытом ветхой тряпицей, в далекий гомон деревни вплелись шаги, мелькнула тень, перекрывая жаркий свет солнца, отдернулась циновка на низкой двери. Матара пятилась, сгибаясь, чтоб не ушибить голову, быстро и весело выговаривая кому-то, кто остался снаружи.
— Убери руку, я уже пришла, тихо, разбудишь…
Ломкий басок снаружи и смех. А после — быстрые шаги и беззаботный свист.
Повернувшись, Матара увидела сидящего Нубу и, уронив корзинку, кинулась к нему. Присаживаясь на край лавки, горячо блестела глазами, шептала благодарности богам и, настойчиво прижимая ладошкой широкую мокрую грудь, укладывала больного обратно.
— Ты слабый еще! Ложись! Я принесла молоко, немного, но оно хорошее. А еще я встретила десятника, он сказал, ничего что болеешь, сказал ты сильный и как лихорадка уйдет, приходи, он возьмет тебя обратно копать. А я сказала, что ты будешь лежать и есть, даже когда лихорадка…
— Матара, я лежу-лежу, — он улыбнулся и послушно открыл рот. Холодное молоко протекло в горло, как белое облако, сладко и вовремя. Напившись, Нуба откинулся на изголовье и прикрыл глаза, следя, как девушка, еще раз пощупав его лоб и щеки, на цыпочках передвигается по земляному полу — высыпает в плошку финики, ставит калебас с молоком в тень, и, оглянувшись на него, сует в старый кувшин веточку тимма.
Парни из деревень матайа дарили цветущий тимм своим избранницам. Кто провожал ее и ушел, независимо насвистывая? Наверное, тот самый мальчишка, что хотел подраться с ним десяток дней тому, оступаясь в кучах выброшенной из канала земли и глядя снизу вверх злыми черными глазами. А сам — едва до подбородка доставал бритой макушкой. Все землекопы тогда окружили их, одобрительно улюлюкая и размахивая руками, топтались, подбадривая бойцов. Сверкали пожелтевшие от кестана зубы, тряслись концы небрежно намотанных на макушки грязных тюрбанов. Нубе пришлось схитрить. Нахмурил брови, свел лицо в свирепой гримасе и, размахнувшись, шагнул вперед, подвернул ногу, припав на нее, застонал, растирая щиколотку. Парень горделиво повел тощими плечами и ушел, не оглядываясь. А одет был хорошо, видно — не бедствует и что забыл у нищих копателей глины? Теперь понятно, что.
Пока Нуба размышлял, Матара затеплила огонь в маленьком очаге, накормила его запасенным хворостом, поставила сверху казан, кинула в него принесенные мясные обрезки. И прибежав к Нубе, стащила рубашку-дашики, прижалась к его боку гладким телом, обхватывая руками, чтоб не упасть с узкой лавки.
— Держи меня. Держи, а то я упаду на пол!
— Держу.
— Я буду с тобой, пока не сварится суп. А потом мне надо наплести стеблей для циновок, я вчера принесла, мне заплатят! Видишь, какая я?
— Ты самая лучшая.
— Да. Да. Ты только не болей больше, Нуба. Я сильно испугалась. Ты говорил ночью. Каждую ночь говорил. А меня не видел. Это страшно, когда твои глаза глядят куда-то, я оглянулась, а там нет никого. А ты говоришь и говоришь…
Великан напрягся и тут же погладил девушку по курчавым тугим волосам. Спросил мягко:
— С кем же я говорил? О чем? Называл ли имя?
— Я не знаю. Ты говорил быстро и непонятно, бур-бур-бур, а потом стонал о-о-о, и снова бур-бур.
Она вертелась, трогала его за плечо и локоть, прижималась, дыша и целуя все, что попадалось ее губам. И наконец, успокоилась, выговорив все свои страхи и горести, когда сильный защитник, что кормил и думал о том, как им жить, вдруг перестал заботиться о ней. Похвасталась:
— Видишь, я работала и у нас была еда! Ты не ел, но были и лекарства! Потому что я не ленива и не трусиха. Я сразу побежала на базар и там спрашивала у женщин. И мне дали работу. А потом…
Матара замялась, но продолжила:
— Потом Церет сказал, что в их дом нужны циновки, много. И повел меня к плетельщицам своей матери. А еще принес мне лекарство — для тебя.
— Церет. Это он провожал тебя?
— У меня тяжелая корзина.
— Конечно, — согласился Нуба, — конечно. Ты не вертись, испинала мне все бока.
— Я скучала. А ты уже совсем выздоровел?
— Смотря для чего.
Матара хихикнула.
— Сам знаешь, для чего. А то суп вот скоро закипит. Я думаю, ты уже здоров. Твое тело говорит — Матара, иди ко мне.
Нуба повернулся и внимательно посмотрел на гладкое черное лицо, тугие щеки, темные глаза, большие, как у ночного ленивца. Она легла на его грудь и, надавливая подбородком, ждала, улыбаясь.
— Матара, — сказал он, — иди ко мне.
Она приблизила лицо, дыша молоком и свежей травой, а ему показалось — отдаляется, утекая, как утекает вода из сложенных ладоней, тихо и неостановимо, как ни своди пальцы.
Когда он простонал, сжимая зубы, чтоб не испугать ее, как напугал в первый раз, когда сама пришла в травяном шалашике, наспех сплетенном в лесу, она вскрикнула, смеясь, как ребенок, наевшийся сладкого. И вскочив, мелькнула локтями и пятками, убегая снять кипящий казанок.
Нуба вытер мокрый лоб и уронил руку. Когда же это было? Он невнимательно считал, но у матайа они уже, пять, нет, шесть месяцев. А до того была пустыня и недолгие остановки в редких оазисах. А после — бродячая жизнь, когда пробирались через леса. Значит, восемь месяцев она ему маленькая жена. Сама захотела и он не отказался. И вот она уходит.
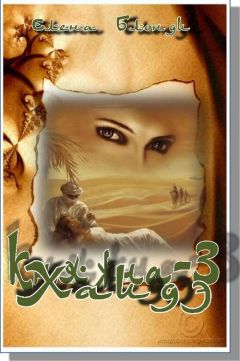
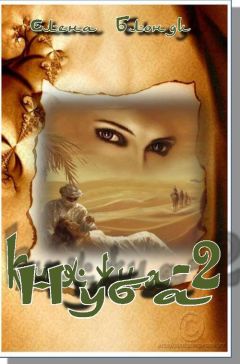

![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)

