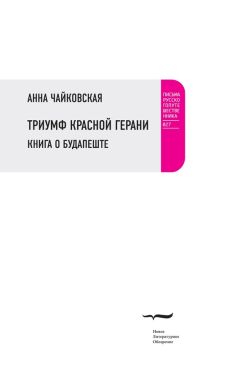— Да.
Дорога вбегала в поселок, разваливалась на ухабы и рытвины, становясь деревенской улицей. Одной, с отходящими в стороны проулками. Слева смотрели калитками и воротами на улицу дома, что упирались огородами в желтый песок широкого пляжа. Справа такие же дома, бабками в белых косынках стен, присели на краешек холма, добродушного, как мамонт в рыжей травяной шерсти. На загорбке мамонта-холма чертили подол неба кресты маленького кладбища.
А впереди, сужаясь и уходя вдаль, улица вставала на дыбы, поднимаясь в круговерть серых скал на вершине мыса. Будто, когда они были мягкими, как халва, перемешал куски огромный жесткий палец. И осталось каменное месиво, кубами и огрызками, с острыми и сглаженными краями.
— Красиво тут. Вон скала какая…
— Там за ней бухта. В ней пансионат раньше был. А щас там тренажерный зал и ресторан. Тир еще. Сауна. Давай посидим тут.
Василий дернул Витьку за рукав и потащил в узкий проулок. В нем гудел ветер, стиснутый глухими белеными стенами. Рядом с калиткой, украшенной висячим ржавым замком, — облезлая скамеечка.
Садясь, Витька вытянул уставшие ноги, запахнул куртку, которую прохватывал острый ветерок. Вася, свесив голову, ковырял чешуины зеленой краски и отпускал. Ветер подхватывал их, поворачивая, укладывал на песок.
— Вась, ты меня тут заморозишь. Я горячий, шел ведь.
— Там, за скалой, то вот и есть улица Коммунистов дом пять, — сказал Васька ровным голосом. Отколупнул еще краски, — Яшка там, директор. К нему туда все гости едут. Зимой меньше, но все равно. Наташка теперь будет пить. Год не пила. Теперь — снова. Машутку мы с мамой смотрим, она классная, надоедает только, но пусть. Натаху он теперь снова будет продавать… А зал там для спортсменов…
— Погодь, погодь. Вась, я не успеваю. Как это — продавать? Кому?
— Зимой — гостям. А летом — туристам. Богатые которые. Два года назад было уже. Машка была маленькая совсем…
Он дернул по краю лавки рукой и зашипел сквозь зубы. Под ногтем наливалась кровью полукруглая лунка. Вытер руку об штаны. На выгоревшей ткани остались неровные темные полоски.
— Ты его, Витя, убей, хорошо?
Витька за плечи стал разворачивать мальчика к себе, но тот вывернулся и, тяжело дыша, отодвинулся, уставясь в мелькающее в просвете между стен море. Только затылок напряжен так, что волосы торчат ежовой щетиной, и уши пламенеют от солнца.
— Вась, что ты говоришь такое? Как это убей? Преступление это. И потом, что же теперь, всех через одного убивать?
— Его только.
Море дразнило, кололо глаза, дышало коротко и сильно холодным ветром. Витька накинул капюшон и прислонился к белой стене.
— Значит так, послушай, друг. За то, что сказал, спасибо, буду знать. И тебе обещаю, что смогу — все сделаю. Для тебя и для нее. Идет? Чего бурчишь?
— Идет, — отозвался Васька.
— Тогда дай пять.
— На, — Васька протянул испачканную кровью ладонь. Витька шлепнул, испачкав свою.
— Вот и породнились. Ну, пошли, что ли?
Васька повернулся. Глаза серые с зеленью — мокрые, но слез на щеки не пустил. Мужик, подивился уважительно Витька.
— Вить… — взгляд Васьки скользнул по Витькиному свитеру.
— Змею, что ли, показать?
Тот молчал. Снова потянулся колупать краску. Витька шлепнул его по руке. Встал и задрал свитер:
— Смотри скорее, да пойдем.
Васька смотрел молча, исподлобья. Кажется решал, что с нее толку.
— Настоящая ведь? — спросил, утверждая.
— В каком смысле?
— Ладно. Потом.
Не удивился и не восхитился, не то настроение, видно. Витька опустил свитер. И пошел из проулка, слушая, как скрипит песок под сапогами.
— Если не получится у тебя, я вырасту немножко и сам его убью.
— Договорились…
Разъезженная грязь дороги сверкала на солнце рыжими полосами от тракторных колес, похожими на отпечатки доисторических скелетов. Блестела коротким мехом инея, который прятался в тенях, но солнце лезло, заглядывая туда и, подарив блеска, превращало иголочки в мокрое.
Шли рядом по краю дороги, вдоль облезших зимних кустов и неожиданных астр, стоящих грязными пучками у заборчиков. Как бывшие красавицы, что когда-то цвели, а теперь вянут под вечной косметикой. Белые и фиолетовые, розовые.
Их провожали взгляды закутанных в серые платки женщин в огородах, ленивый лай собак из-за штакетника, говор телевизоров из распахнутых в солнечный день сеней. Черный псинка, весь состоящий из рьяности, погнался следом, захлебываясь, но Василий присел, протягивая руку к грязи, и сторож, взвизгнув, удрал. Ученый, камней боится. Витька вспомнил, давно-давно, в чужих поселках они так же спасались от собак, смеялись, приседая на ходу.
Вдруг затосковал по детству. Не любил его вспоминать, потому что выбирать памятью хорошее не умел. Но вспомнил сейчас не детские горести, которых у каждого — полный карман, на всю жизнь тяжелый, а вспомнил огромный мир, весь из неба, воды и степей, из ветров и упрямой рыбы, валящейся через серый борт байды. И, оглядываясь вокруг, уговаривая себя, что вот же этот мир, почти и не изменился, заскучал по тому, что изменилось: ушло ощущение полного права себя в этом мире. Раньше был просто частью мира, такой же, как песок и скалы. Теперь — ходит отдельно.
Подумал о Степке, о том, что рыжий в столице выглядит деревенщиной, но неправда это, потому что здесь, в измазанных глиной сапогах, тонущих в ртах дороги, невозможно представить Степку. А вот изящную красотку Тину Тин, его Танечку, вполне. Кровь в ней не городская. Сойдет, нащупав ступеньку носком итальянской туфельки, ступит на рыжую дорогу, и — пойдет себе. Разве что остановится разуться, обувку не испортить.
— ВЕрхом хочешь?
— Что?
— Через скалу?
Витька обошел яичного цвета мытый жигуленок, приткнувший морду в ворота крайнего дома, раскланялся с хозяином в старой нейлоновой куртке и лыжной шапочке, тот смотрел напряженно, удерживая на лице обязательную улыбку. Оглянулся.
Улица теперь сужалась там, откуда пришли. Прилипал к узкому хвосту светлый песок пляжа, а с другой стороны мамонтовый холм чесал его кустами. И по длинному тулову, расписанному рыжими ямами и рваными кочками, как в детской книжке про чудо-юдо рыбу-кита, натыканы были: машинки у ворот, собачки и куры, бабки у беленького магазина. Только не по рыбе, по змее улицы натыкана жизнь. И солнце, слепит глаза, зажигая мокрую спину дороги.
Витька увидел кадр, свет его, представил как это будет, ухваченное рамками, зимний блеск, такой сильный, что соль ветра выступит на губах тех, кто смотрит. И знал, если бы снял сейчас, стоя на пологом подъеме, перед крутизной, то зрители увидели бы, о чем думал, и тоже упали бы в прошлое, в каждого десять лет и, что там кому мама наливала на ужин, — молока? Чаю?