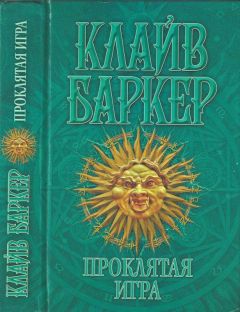— Так была ли жизнь жестока к тебе? — спросил Европеец.
— Да, — угрюмо ответил Брир.
Мамолиан кивнул. Он глядел на Пожирателя Лезвий с состраданием или идеально это изображал.
— По крайней мере тебя не засадили за решетку, — сказал он. — Ты осторожен.
— Ты научил меня этому, — признал Брир.
— Я показал тебе то, что ты и сам знал, но не видел, слишком запутанный другими людьми. Если ты забыл, могу показать снова.
Брир глянул на чашку сладкого чая без молока, которую Европеец поставил на столик у кровати.
— Или ты больше мне не доверяешь?
— Многое изменилось, — пробормотал Брир распухшими губами.
Теперь настала очередь Мамолиана вздохнуть. Он снова сел на стул и пригубил чай, прежде чем ответить.
— Да, боюсь, ты прав. Все меньше и меньше интересного для нас остается здесь. Но значит ли это, что мы должны сдаться и умереть?
Глядя на его спокойное аристократическое лицо, на глубокие впадины глаз, Брир начал вспоминать, почему доверился этому человеку. Страх понемногу проходил, злость тоже. В воздухе царило спокойствие, и оно потихоньку действовало на Брира.
— Пей чай, Энтони.
— Спасибо.
— А потом, я полагаю, тебе надо сменить брюки.
Брир покраснел; он ничего не мог с собой поделать.
— Твое тело отреагировало вполне нормально, нечего стесняться. Дерьмо и сперма заставляют мир вращаться.
Европеец мягко рассмеялся в свою чашку. Брир почувствовал, что смеются не над ним, и присоединился.
— Я никогда не забывал тебя, — сказал Мамолиан. — Я обещал, что вернусь, и сдержал обещание.
Баюкая чашку в дрожащих ладонях, Брир встретил пристальный взгляд Мамолиана. Брир помнил, что этот взгляд всегда непроницаем, но сейчас ощутил его тепло. Европеец сказал: ты не забыт, ты не покинут. Возможно, у Мамолиана есть свои причины быть здесь; возможно, он пришел выжать плату из задолжавшею кредитора; но это лучше, не правда ли, чем полное забвение?
— Зачем ты вернулся? — спросил Брир, поставив чашку на стол.
— У меня есть дело, — ответил Мамолиан.
— И тебе нужна моя помощь?
— Верно.
Брир кивнул. Слезы почти высохли. Чай помог, и он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы задать пару наглых вопросов.
— Ну а как насчет меня? — произнес он.
Европеец нахмурился. Лампа у кровати замигала, будто дошла до кризисной точки и вот-вот перегорит.
— Как насчет тебя? — повторил Мамолиан.
Брир сознавал, что идет по тонкому льду, но решил не сдаваться. Если Мамолиану нужна помощь, он должен предоставить что-нибудь взамен.
— Что здесь для меня? — спросил Брир.
— Ты снова будешь со мной, — сказал Европеец.
Брир хмыкнул. Предложение не слишком заманчивое.
— Тебе недостаточно? — поинтересовался Мамолиан.
Лампа замигала еще сильнее, и внезапно Брир потерял желание сопротивляться.
— Отвечай мне, Энтони, — настаивал Европеец. — Если у тебя есть возражения, выскажи их.
Лампа мигала все чаще, и Брир понял, что напрасно пытался принудить Мамолиана к заключению сделки. Как он мог забыть, что Европеец ненавидел сделки и тех, кто их совершает! Инстинктивно он потянулся пальцами к вмятине от петли на своей шее. Она была глубокой и не собиралась исчезать.
— Прости меня, — запинаясь, сказал Брир.
Как раз перед тем, как лампочка погасла, Мамолиан кивнул головой. Крошечный кивок, почти как тик. Затем комната погрузилась во тьму.
— Ты со мной, Энтони? — прошептал Последний Европеец.
Его всегда ровный голос изменился до неузнаваемости.
— Да, — ответил Брир.
Его глаза медленно привыкали к темноте. Он прищурился, стараясь разглядеть силуэт Мамолиана в окружающем мраке, но мог бы и не беспокоиться. Мгновение спустя напротив него что-то вспыхнуло — Европеец вдруг зажег свою собственную ужасающую иллюминацию.
Когда Брир увидел этот страшный свет, от которого мутился разум, чай и извинения были забыты. Тьма и сама жизнь тоже были забыты. Комната вывернулась наизнанку, наполнилась ужасом и лепестками; можно лишь смотреть и смотреть, а еще — даже если это кажется смешным — молиться.
Когда Последний Европеец остался один в мерзкой, грязной комнате, он сел, достал любимую колоду карт и принялся раскладывать пасьянс. Пожиратель Лезвий переоделся и вышел, чтобы попробовать ночь на вкус. Сконцентрировавшись, Мамолиан мог проникнуть в его мозг и реально ощутить все, чем наслаждался Брир. Но сейчас его не привлекали подобные игры. К тому же он слишком хорошо знал, чем займется Пожиратель Лезвий, и это вызывало у него отвращение. Все искания плоти, традиционные или извращенные, были ему противны, и чем старше он становился, тем сильнее делалось омерзение. Иногда он не мог смотреть на человеческое животное, не отводя взгляд, или прикусывал язык, чтобы подавить поднимавшуюся тошноту. Но Брир мог пригодиться в предстоящей борьбе. Его странные желания давали ему возможность проникнуть, хотя и грубо, в глубину трагедии Мамолиана, и эта возможность делала его лучшим помощником, чем обычные компаньоны, которых Европеец терпел за свою долгую-долгую жизнь.
Большинство тех, в кого он верил — мужчин и женщин, — предавали его. История повторялась в течение десятилетий столь часто, что он не сомневался: настанет день и он обретет невосприимчивость к боли, причиняемой предательством. Но ему никак не удавалось достичь безразличия. Жестокость людей, грубо использовавших его, неизменно ранила; и хотя его снисходительность распространялась на самые разные душевные изъяны, подобная неблагодарность не имела извинений. Возможно, мечтал он, когда последняя игра будет завершена — когда он соберет свои долги в крови, ужасе и ночи, — тогда его оставит эта мучительная боль, вызывающая к жизни новые амбиции и новые предательства без надежды на покой. И если все это закончится, он сможет спокойно лечь и умереть.
Карты в его колоде были порнографическими. Он использовал их, только когда чувствовал себя сильным и только наедине с собой. Играя с образами крайней чувственности, он испытывал себя, а если проигрывал, то об этом не узнавал никто. Непристойности в колоде были, в конце концов, лишь человеческими пороками; он мог перевернуть карты и забыть о них. Мамолиан ценил остроумие художника: каждая масть соответствовала одному из видов сексуальной активности, и отдельные фрагменты соединялись в тщательно нарисованную общую картину. Черви изображали соития мужчин и женщин в самых разнообразных позициях. Пики живописали оральный секс — обычную фелляцию и более изысканные вариации. Для треф была избрана содомия: от туза до десятки — гомосексуальная и гетеросексуальная, а дальше — анальный секс с животными. Изысканно нарисованные бубны посвящались садомазохизму, и воображение художника не знало границ. На картах этой масти мужчины и женщины подвергались всевозможным унижениям. Их истерзанные тела покрывали ромбовидные раны.