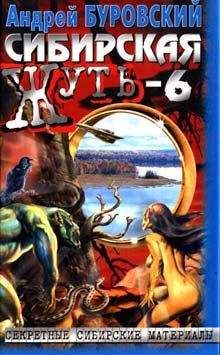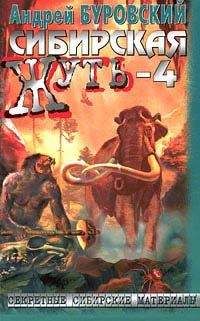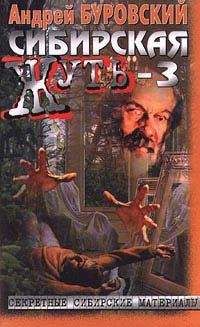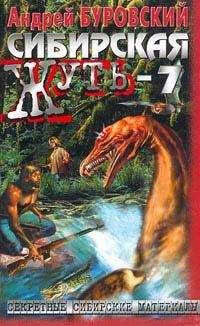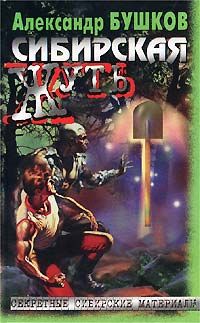А жил я эти годы со своей дочерью, и больше всего ею, дочерью. После всего друзей-то у меня поубавилось… Часть — опасались, потому что ведь органы могли еще и разобраться со мной, выяснить, что и я тоже враг народа. Может, я планы вынашивал через пролив убежать? Может, меня органы только временно оставили, чтобы я свою сущность раскрыл и как раз и показал бы свои связи? Так что опасались люди, опасались…
Другие… Другие думали примерно как Анастасия. Не в такой степени, но так же. Может, и не так сильно они меня осуждали, но был я им и не особенно приятен. На работе — еще ладно, а ходить домой и чай пить…
Так что не стало у меня друзей, и это к лучшему. В любом случае и ты ни на кого не наведешь, и на тебя показать некому. Больше всего в эти годы я работал. И в лабораториях, и в экспедициях. Многих что губило? Что деньги платят неплохие, можно и не делать ничего, никакой такой научной работы. Можно только в экспедициях работать до упаду, а в городе, зимой, просто ходить, общаться, пить водку, песни петь.
Жизнь проходит ни за понюх табаку, но зато и усилий никаких. Можно спокойно выполнять свое, не перенапрягаясь, а потом друг к другу ходить, трепаться.
Ну, а от меня все отступились, мне и делать стало нечего, кроме как работать. А наука всегда привлекала. Долго в стол работал, не высовывался. В войну, чувствую, стало можно — и защитил кандидатскую. Материала много было — я скоро и докторскую, сразу же после войны. После Победы сразу оказался и начальником, и доктором наук.
Жил я по-прежнему затворником, а если в экспедицию не уезжал и не работал — дома сидел. Но, конечно, жил уже совсем иначе. Мне самому уже цена была другая — не молодой специалист, а ученый в годах, и при должности…
После войны вообще многое переменилось; из старых, все помнивших, мало людей осталось. Кто умер, кто — на материк… В общем, стали вокруг меня и люди появляться. Одно время даже думал всерьез — не жениться ли. Женщина она хорошая была, душевная… Иногда и сейчас думаю — зря не женился. Но тут дочь подрастать стала, а у Ирины Константиновны тоже в семье ссыльные… Так и не женился.
Выросла девочка, в архитектурный институт поступила, в Ленинграде. У меня душа порой болела, но я деньги посылал, ей легче было, чем многим. Она в 1953 вернулась. Можешь верить, можешь нет — но твоя мама мной гордилась. Любила меня. По мне и мужа искала — чтобы ученый, чтобы сильный был.
А как раз в это время стали постепенно заключенных выпускать. До сих пор не знаю — сама Анастасия решила выйти на дочку или кто-то посоветовал? Или кто-то рассказал Наташе, кто знал, что мать ее выходит? Не знаю. Помню, как она пришла тогда… Шуба расстегнута, оскалена, лицо все в пятнах, перекошено.
— Ты верил? — спрашивает. — Ты в виновность мамы верил?
Между прочим, я мог бы соврать. Да вот не соврал, не решился. А может быть, не захотел.
— Нет, — говорю, — не верил. Ни единого часа не верил.
И пытаюсь рассказать, что ее же спасать надо было. Попытался рассказать то же, что тебе. Все-таки надеялся — поймет. А она — руками за щеки, тихо-тихо в спальню и закрылась там. И все. Была у меня дочь… И, можно сказать, не стало дочери. Ну, Анастасия Никаноровна сначала в Магадане поселилась, где-то в частном секторе. А потом ее Наташа увезла. Пускали таких не везде, в европейскую часть СССР старались вообще не выпускать. Так что в Барнаул — это как раз куда пускали.
Со мной это не обсуждалось, и в мой дом Анастасия не вошла. Дочь мне просто сообщила, эдак сухо, что они с мамой уезжают, что им от меня ничего больше не надо. Тогда вообще стало модно таких, как я, презирать и делать вид, что мы и есть самые последние мерзавцы.
Ну вот, значит, Наталья с мамой в Барнаул уезжает, в 1956 году, и начинает трудиться там как архитектор. Там она и замуж выходит, за Кирилла Ивановича Скорова, тоже архитектора. Как ты понимаешь, Володенька, мужа она как угодно выбирала, но уже никак не по мне. И строила свою жизнь только свою — без меня. И отторгает вообще все, что от меня. Наука? Это от меня, долой! Связи? Обеспеченность? Долой! История семьи, гордость за фамилию? Долой!
Вот и выходит, что дочь я спасти — спас. И даже нельзя сказать, что ценой чьей-то гибели. Она сама так поворачивала, что ценой… А это неправда, внучек, не так было. Но дочь я хоть и спас, но потерял. И осталась надежда, Володенька, только на внука или на внуков. Надежда на то, что будет внук и смогу я его хоть немножечко, а все же притянуть к себе. Или что будет у дочери несколько детей, и смогу я хоть одного немного воспитывать.
Жениться у меня и тогда еще возможность была. Заводить новых детей было вроде бы и поздно… Но чтоб не одному доживать. Не вот как сейчас — допишу это письмо, уйду в казенный дом, в больницу. И вернусь вот сюда, нет ли — не ведаю. И проводить меня некому, внук. И встретить некому. А хочется, Володенька, представь себе, хочется. И в 70, и в 80 хочется быть кому-то небезразличным. А мне тогда и 60 не было, и ох до чего же не все было у меня позади…
Но видишь ли… Те, на ком бы я женился, те как раз из круга, который меня не очень-то и жаловал… Даже если и объясниться, что-то доказать… Тем более и тогда, и позже считалось: кто за границу убежал — это предатель, от него и отречься не грех. Но горд я, внучек, ох как горд! Есть у нас такой семейный грех — гордыня.
А те, кому и доказывать нечего, кто меня кругом правым считал и кто еще и за честь почел бы с крупным ученым породниться… С тем, видишь ли, я сам родниться не стремился… Гордыня, внучек, гордыня… Самое что ни на есть наше семейное заболевание…
И, конечно же, поздно мне уезжать было. Кто же пенсионера проведет на кафедру, на научную работу — по конкурсу, кому нужно… До пенсии, до 60 лет, сидел я себе тихо в Магадане. А сам для себя давно решил — после пенсии ни дня не задержусь. И пенсия приличная, и деньги у меня были, на сто лет хватит. Автор кучи рацпредложений, премии большие, да и золото…
Вот в 1962 году вышел я на пенсию и как работник Севера имел право прописаться, где хочу. Я выбрал Ленинград, и дали мне там квартиру. Как одинокому — однокомнатную. Потом уже я свой, двухкомнатный кооператив построил, на Мореса Тореза… Ну, и консультантом во ВСЕГЕИ, и у геологов в Горном — тоже стал гораздо позже.
Вот семейную дачу я быстро нашел и откупил. Ее хозяин просто обалдел, когда я ему свою цену назвал. И стал жить все больше на даче, той самой, где росли мы втроем — я, Василий и Софья.