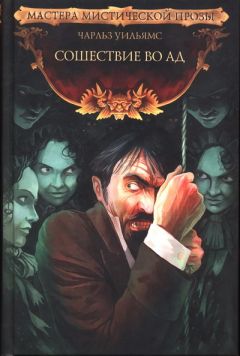«Это у Господа привычка такая, – подумала она, – совершать что-нибудь непременно в огне». Только что Он вынудил ее сказать «Ступайте с миром», и хотя огонь был у нее внутри, он все равно обжигал не хуже настоящего. Она опять вспыхнула, подумав об этом. Так… Она искала именно эту фразу: «Я видел спасение…». Когда она раньше читала или вспоминала о муках предка, ей никогда не приходило в голову, что Струзер был не только религиозным фанатиком; она испытала легкое неудовольствие оттого, что она с ним одной крови. Теперь она подумала, что, возможно, Струзер говорил грубую правду. Она отложила книгу и выглянула в окно. Это вдруг оказалось на удивление легко – взять да и выглянуть в окно. Сейчас она могла бы даже подойти к калитке и выглянуть на улицу. Бремя целиком лежало на ком-то другом, и нужно просто оставить все как есть. Она надеялась, что оно не станет беспокоить Питера Стенхоупа ни сейчас, ни потом. Стенхоуп и Тот, кого он имел в виду под Всевышним, прекрасно уладят это дело между собой. Ну а там и она поможет кому-нибудь с его бременем. Все несут чье-то чужое бремя, подобно тому, как жители островов Скилли стирают друг другу. Если стирать свою собственную одежду трудно и неприятно, а чужую – легко и в удовольствие, наверное, обитатели островов Скилли кое-что понимают.
– Бросить все и уехать отсюда на Скилли! – сказала она вслух, пока шла к калитке.
– Дорогая моя! – окликнул ее кто-то совсем рядом.
Паулина вздрогнула. Забор был довольно высокий, а она была занята своими мыслями, но все же должна была заметить женщину, стоявшую на улице слева от нее. На мгновение она запнулась, но тут же пришла в себя.
– Ой, добрый вечер, миссис Сэммайл. Я вас не заметила, – сказала она.
Женщина внимательно смотрела на нее.
– Как ваша бабушка? – спросила она.
– Боюсь, она слабеет, – сказала Паулина. – Спасибо вам за заботу.
– А вы как? – продолжала Лили Сэммайл. – Я была…
Паулина прервала ее.
– Замечательно! – воскликнула она, глубоко вздохнув. – Какой чудесный вечер, правда?
Женщина чуть наклонилась вперед, будто даже в светлый июньский вечер не могла отчетливо ее разглядеть.
– Последнее время мы с вами не встречались. Вы меня избегаете?
Паулина только улыбнулась в ответ. Внутри у нее царило удивительное затишье. Но старушка, похоже, хотела помочь, и хотя сейчас Паулине не нужна была никакая помощь, она ответила вполне доброжелательно:
– О, сейчас мне гораздо лучше.
– Ну, вот и хорошо, – сказала Лили Сэммайл. – Берегите себя. Думайте о себе, будьте внимательны к себе. Я могла бы сделать вашу жизнь совершенно безопасной и счастливой к тому же. Вы не представляете, насколько счастливы могли бы быть.
Сейчас ее голос звучал намного мягче, чем помнилось Паулине. При свете дня Лили Сэммайл показалась ей жестким человеком, даже в голосе ее слышался металл. Она же обычно такая суетливая… а сейчас она стояла совершенно неподвижно, и голос был мягок. Мягок, как прах, что несет по улице вечерний ветерок. Прах мертвых, прах Струзера, погибшего в огне. Был ли он счастлив? счастлив? счастлив? Паулина не знала, кто произнес это слово, но оно повисло в воздухе, парило над ними, а внизу кружилась пыль… У Паулины закружилась голова. Она медленно открыла калитку.
– Счастлива? Я… я счастлива? – произнесла она, будто хотела рассеять дымку.
– Счастлива, богата, – прошептали в ответ. – Как бы все могло быть чудесно! Я могла бы рассказывать вам сказки, и там были бы только вы. Разве вы не хотели бы стать счастливой? Если вас что-то беспокоит, я могу отогнать это от вас. Подумайте, от чего вы отказываетесь.
– Не понимаю, – пробормотала Паулина.
– Дорогая моя, это так просто, – продолжала та. – Идемте со мной. Я дам вашему телу любое наслаждение, какое захотите. Я сделаю так, что вы сможете почувствовать себя кем только захотите. Я подарю вам уверенность и радость в любой миг вашей жизни. Но – тайно, тайно, ни одна живая душа не должна знать об этом.
Ее слова повергли Паулину в трепет. По краю ее сознания прошла волна щекотливого восторга. Сегодняшнее освобождение вдруг показалось ей мелким и неинтересным. Конечно, она обрела покой, и всего десять минут назад ей казалось, что это так много! Ей и сейчас все еще так казалось, особенно если учесть, что тому, первому обретению она обязана обретением вторым. Там был покой, а здесь ей обещали блаженство. Пожалуй, она поспешила сменить свою беду всего лишь на прохладный дар, в то время как здесь ее ожидало палящее великолепие. В покое она обрела прекрасное чувство безопасности, и теперь, окрепнув и успокоившись, она почти готова была принять это новое обещание. И пока ее сердце билось быстрее, а ум работал над тем, чтобы одновременно осознавать и не осознавать свои желания, голос проскользнул в ухо, дразня, разгоняя кровь, будоража. Он сулил небывалые зрелища и дивные звуки, прикосновения и волнения, полное забвение бед; все, чего она хотела. Будь у нее все это, и ничего больше не надо. Мечта превратится в действительность. Сердце Паулины колотилось все быстрее. Она медлила на самом краю сладостного предвкушения.
– Но как? – пробормотала она. – Как все это может случиться? Откуда мне знать, чего я хочу? Я никогда не думала… я никого не знаю…
– Просто дай мне руку, – предложил голос, – а потом иди и мечтай, пока твоя мечта не созреет. – Искушающий голос помолчал и добавил вкрадчиво: – И тебе больше никогда не придется что-нибудь для кого-то делать.
Стоп! А как же обещание, данное ей Стенхоупу? Фонтан невероятной красоты взметнулся в последний раз и разбился о своды этого мира. Плеск рушащихся струй привел Паулину в чувство. Никогда ничего ни для кого не делать! Но она обещала, что возьмет чью-нибудь ношу так же, как взяли ее, что она будет тем, чем может быть, как сказал он. Нравится ей это или нет, но клятва дана, и совершенно неважно, насколько поспешно она дана.
«А клятва? Клятва? Я поклялся небу». [22] Она читала много стихов в последнее время, поскольку ей приходилось читать стихи Стенхоупа, и священные слова окутывали ее величественными звуками, перед которыми она была – ничто. «Клятва? Клятва?… Клятвопреступником не стану я». [23]
Внезапно усилившийся ветер бросил последнее «не стану» в небо над Холмом и вернул правду: ложь, ложь! Она отреклась. Тут же ей на ум пришло: «коварный, лживый, вероломный Кларенс! О фурии, его предайте мукам!» [24] Слово зазвучало вокруг на сотни голосов. Клятвопреступница! Ведь ей преподнесли настоящий дар, не поступок, продиктованный тайной жадностью, не страстишку, а благородное добро, мудрый закон всеобщего обмена любовью, закон всей Вселенной. Только он, Стенхоуп, – не Паскаль, не иезуиты, не пожилая суетливая болтунья, а только он – не лунный свет, не дымка, не клубящийся прах, только он наделил ее смелостью просить у Небес! Клятва, открывшая ей Небеса, связала два любящих сердца, и теперь в них сиял тихий свет взаимной любви. Пусть она не понимает, как это может быть, но поступать как должно можно и без понимания.