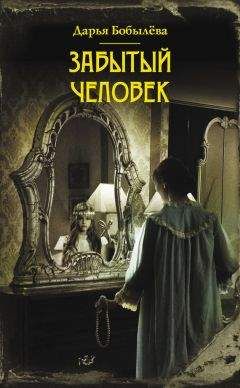Ведь он знал о том, что столовая тут давно уже не работает. И что нет электричества. Как знал и о смерти Алычова и Шекмана, и о растительном существовании в богадельне угрюмого Веселкина. Более того – он не покупал сюда путевку. Образ милой старушки, которая сидела в кабинете с высоким потолком, оформляла отдыхающим бумаги и еще помнила Евсея Громова, помутнел и рассыпался светлой пылью. Воспоминание об усатом вахтере, у которого вчера вечером уставший после дороги Сергей взял ключ с нелепым, похожим на кеглю брелоком, мигнуло и растаяло прежде, чем начинающий писатель успел разглядеть намалеванный на кегле номер дачи.
Сергей поднялся, держась за гудящую от боли голову. Он пытался понять, что происходит, откуда взялась вся эта дикая фантазия, которую он по неизвестной причине доверчиво принял за реальность. Что заставило его ради того, чтобы восстановить истощенные силы и пошатнувшийся рассудок приехать в давно не работающий и опустевший дом отдыха… И забыть об этом, практически видеть и осязать призраки Шекмана, литературных дам, Алычова. Откуда-то еще постоянно возникал висельник, у которого отчетливо видны были только ноги, но Сергей отогнал образ незнакомого покойника. Он был таким же бредом, как чокнутые Бобриковы, которые, взявшись за руки, разъезжают на роликах среди опустевших дач…
Начинающий писатель замер, вытаращив глаза и крепко прикусив костяшку указательного пальца. Бобриковы были бредом. Он видел, слышал, обонял и осязал галлюцинацию. Вызванную неизвестной силой, загадочным внешним воздействием, изощренным гипнозом, газом, распыленным хладнокровными экспериментаторами в защитных костюмах…
И в это мгновение Сергей ощутил в собственной черепной коробке некое присутствие. Присутствие коварного, ожесточенного студенистого существа, источающего холодную ярость. Это был не инопланетный паразит-захватчик, в которого Сергей сейчас поверил бы с готовностью и с удовольствием. Это был его собственный мозг.
Мозг, измученный свирепыми попытками Сергея сотворить гениальное, поврежденный веществами, озлобленный и истощенный, так долго готовивший свою месть. И создавший наконец зловещее и причудливое произведение без сопливого гуманизма, без лежащего на поверхности смысла, поражающее жизнеподобием настолько, что ему удалось обмануть самого автора. То, о чем столько времени бесплодно мечтал начинающий писатель, не предполагавший, конечно, что его затянет в долгожданное творение, как в работающий станок…
Медленно, вытянув перед собой руки, ощупывая воздух и не доверяя даже тактильным ощущениям, Сергей подошел к затененному многолетней грязью окну. Темнело. За кустами отцветшей сирени виднелись очертания беседки. Сергей прижался лбом к стеклу. В беседке вчера тоже никого не было, там не разливали по стаканам чай и водку, не рассказывали анекдоты, не щипали под столом тяжеловесных писательских жен и невзыскательных любовниц. Мирное видение сияющей в сумерках беседки оказалось всего лишь небольшим штрихом, который мстительный мастер решил добавить в свое произведение. Именно благодаря таким мелким, незначительным на первый взгляд деталям Сергей и поверил безоговорочно в реальность общей картины. Все-таки он не был обыкновенным. Его взбесившийся мозг оказался настоящим художником…
И в тот самый момент, когда Сергей безмолвно признал это, пустая беседка вспыхнула мелкими, яркими огоньками и взорвалась многоголосым хохотом.
В ночи кто-то стрекотал и изредка тревожно вскрикивал. Точеные верхушки елей чернели на фоне темно-синего неба. Пейзаж был подходящий. Сергей сидел посреди веранды на полу, в темноте.
За окнами замелькало светлое пятно, и через несколько секунд в дверь дробно постучали. Начинающий писатель не шелохнулся. Дверь скрипнула, и на веранду вкатилась мадам Бобрикова. Молчаливый супруг шумно дышал на крыльце и подсвечивал сцену фонариком.
– А я у вас тут в крапиву заехала! – Регина Витольдовна с девчачьей готовностью продемонстрировала усыпанные волдырями коленки. – Но это полезно!.. Так куда же вы убежали, молодой человек? Бросили нас.
Сергей молчал.
– Слушайте, – пропела мадам Бобрикова. – Мы тут подумали… мы, конечно, никого не видели, а нас-то хоть кто-нибудь видел?
– Я знаю, – бесцветно откликнулся Сергей. – Я все знаю… Ничего нет…
– А вот и неправда! – взвилась мадам Бобрикова. – А вот и не знаете! – Она понизила голос и доверительно прошептала: – Главного не знаете – что ничего, может, и нету, а мужчина, который в двадцать пятой даче висит – он есть!
– Зеленая такая дача, – внезапно включился в разговор Владимир Петрович. – Прямо как ваша.
– А у вас, кстати, табличка с номером отвалилась. Но ничего. Я ее как раз в крапиве и нашла, представляете?
Что-то со звоном упало на пол. Владимир Петрович добросовестно осветил фонариком оказавшийся у ног Сергея железный прямоугольник – обросший песком, с обглоданными ржавчиной цифрами «25».
– Но это бред, – неожиданно звучным голосом возразил Сергей. – Это же бред!
– Отнюдь! – просияла Регина Витольдовна и выметнула из-за спины правую руку, в которой была толстая, длинная, уютно свернувшаяся петлей веревка.
А все начиналось так хорошо и спокойно: девочка Маша переехала к мальчику Владику. Девочке Маше было уже годков 25, да и мальчик ее щеголял ранней проседью на левом виске. Утверждал, что у них в семье все очень рано седеют, а Маша верила, хотя никого из семьи и не видела, кроме мамы Владика – высокой, сушеной, с вечно приподнятой левой бровью, точно скотчем приклеили. Мама после знакомства с потенциальной невесткой отвела Владика в сторону и сказала, особо не таясь, что выбор сына она одобряет – Маша лично слышала, хотя, конечно, специально ушки не настораживала. А губы у мамы были такие же, как у Владика – крупные, яркие, словно обветренные, в тонкую, нежную, сладкую и чуть кровавую трещинку.
Уже через неделю осовевшая от поцелуев и полубессонных ночей Маша делилась в кафе с подругами впечатлениями о новой жизни, розовея от счастья и хрустя креветками в темпуре. Подруги, перевозбудившись от едкой зависти и от жгучей радости за Машу, налегали на васаби и наседали на практически новобрачную с обычными в таком деле расспросами:
– А он? А ты? И чего? А носки разбрасывает?
Маша смущалась и млела, блестящий пот выступал у нее над верхней губой. Желая обрадовать подруг и уязвить их своих счастьем побольнее, она рассказывала, как ей дарят любимые цветы, как делают массаж, и про то, как подвозят до работы, и про ужины при свечах, и про специально для нее купленные мягкие тапки с мордочками и махровый халат. А подруги лезли все глубже и глубже в Машину новую жизнь и выудили наконец тот нюанс, который Машу и удивлял, и смущал, и смешил – изредка, впрочем, потому что не таким уж важным он казался, чтобы помнить о нем все время.