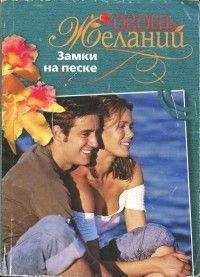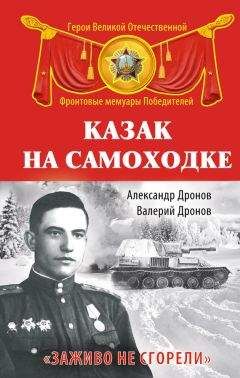Старица МАРФА. Ох, Господи, вспомнить — так смех и грех. Нет бы что путное в память запало — так до сих пор крик этот заполошный звенит: ахти мне, крестный приехал, дитя неумыто! Сколько лет-то мне было? Уж девять, поди. Меня уж тонким узорам учить стали, коймы вышивать позволяли. Причитая, хватает меня в охапку мамка Федотовна и тащит со двора в горницу по высоким ступеням, и трет мне щеки мокрым краем полотенца, а я отбиваюсь, и все полотенце — в варенье. Сама же она скормила мне полгоршка вишневого варенья, были у нас такие муравленые горшочки. Потом сорочку мне меняют, летничек накидывают, косник тяжелый вплетают в косицу, ведут в большую горницу — крестному руку поцеловать. Он большой, грузный, борода мне видна, а выше от стыда глянуть боюсь. А привез мне больших пряников и сахарного петуха. Потом он спрашивает меня, послушна ли расту, какую молитву с мамкой Федотовной заучила. Я делаюсь смелее, уже улыбаюсь ему — и тут вижу, что рядом стоит молодец — краше не бывает, в кафтанчике лазоревом, кудри расчесаны, лицо веселое. Потом старшие садятся за стол, мамка Федотовна ведет меня прочь, а я упираюсь и тихонько спрашиваю ее: кто тот молодец? И она говорит: так это ж крестный старшенького своего привез, Феденьку, не признала? Что, полюбился Феденька?
(Старица Марфа опять смеется).
Тогда, видать, и полюбился. Один он свет в глазу был, Феденька, сокол ясный... хорош, статен, улыбчив, все девки наши по нему втихомолку сохли, все боярышни Богу молились, чтобы сватов заслал. И я туда же, дурочка, в девять-то лет...
Ох, хитра была мамка! Догадалась! Надо ли меня угомонить, надо ли уговорить — один сказ: вот вырастешь невестой, за Феденьку отдадим. С тем и росла. И выросла, и уже исподтишка на него поглядывала, когда он с крестным в гости наезжал. И девки сенные, озорницы, тоже все при мне толковать принимались: а что же это Никита Романович старшенького все никак не женит, давно бы уж пора? Их у него, сыночков, красавцев статных, братьев Никитичей, пятеро было, умаешься всех женить... А и верно — чего он тогда ждал? Крестный-то братом покойной государыни Настасьи был, кто бы за государева племянника дочку отдать не захотел? А девки хитрые так и норовили шепнуть: так ждет, пока Аксиньюшка в пору войдет! А иная — и с издевкой тайной...
Я ведь собой нехороша была. Нос у меня первый вырос — личико еще с кулачок, зато носище — как у армянского купчишки, что лакомства привозит. Потом-то выровнялась, нажила стати, дородства, стала круглолица. Да только все про себя помнила, что нехороша...
И когда сестрица Феденькина, повенчавшись с князем Черкасским, к себе меня взяла, я еще не понимала, что к чему. Радовалась лишь, что чаще его, сокола моего, видеть буду. При ней нас, боярышень, с десяток жило. И иные — красавицы писаные, да ветер в голове. Я же — рукодельница, все в терему со старшими, учусь, то в светлице с мастерицами, то по службам с ключницей, гляжу, как на кухне и на пекарне дневные уроки задают, как припасы закупают, запоминаю... И думаю втайне: может, другие личиком краше, да такой хозяйки, как я, Феденьке во всей Москве не сыскать, вот бы призрела на меня матушка-Богородица...
С детских лет ведь его полюбила! Коли не он — так и никто не надобен! Один он у меня, один навеки, что бы ни случилось... гордыня — грех и упрямство — грех, да только так, как я Феденьку полюбила, не всем любить дано, и я это сразу знала, и гордилась втихомолку своей любовью, и ночью вставала за него, за Феденьку, помолиться...
Исчезают богатые покои Великой старицы Марфы, появляется скромная келья инокини Марфы.
Инокиня МАРФА: Одно звание, что царица. Жила, как монашка, света белого не видела, в домовом храме на молитве одна стояла, одна! То в холе у матушки жила, все меня ласкали и ублажали, а то мне боярыни мои верховые, боярышни, казначеи мои, девки мои сенные словечка не скажут, не улыбнутся, словно я идол деревянный. На что, спрашиваю, Господи, на что ты мне душу живую дал, на что красу дал девичью, на что дал нрав смиренный? Да хоть бы я за конюха вышла, за купчишку последнего — и то бы баловал, ласковые речи говорил, в гости ходить позволял! Маялась я так, маялась — да и поняла: это мне искушение. Искушение! Молчанием меня Господь искушает, злобой людской, мужниной яростью, от которой слезы до утра лью. А выстою — он меня вознаградит. За лучшие мои годочки, государю отданные, за ночи эти страшные, за одиночество мое неслыханное — за все вознаградит! Так буду же я кротка, словно голубица... коли не велит меня государь отравить... а не велит, Господь за меня заступится! Он видит сверху, что живу в страхе смертном! От смерти кротостью обороняюсь, лишнего словца не вымолвлю, глаз ни на кого не подниму... Оборонит и вознаградит!.. А бывали деньки, что и есть боялась, одну лишь водицу пила, к ней отраву не подмешают...
А как помер царевич Иван Иванович, старший государев сынок, еще того страшнее стало. Царевич-то нехорошей смертью помер, родной батюшка в висок посохом поразил. Слыханное ли дело? За то, сказывали шепотом, что царевич жену свою свекру в обиду не дал. И тут мне братцы растолковали — царство-то без наследника осталось. Федор, другой государев сын, хворенький. Разумом убог, одну радость знает — в колокол звонить. Выходит, на меня вся надежда! Покамест я в царицах... Рожу — мое счастье. Не рожу — многие охотно дочек государю отдадут, а меня — в келью, коли не на тот свет. Настращали меня братцы и приказали быть с государем поласковей. А какое там поласковей, когда я его пуще смерти боюсь?
А как не бояться? Он ведь после того, как царевича Иванушку похоронил, совсем ума лишился — ночью с постели вскакивал, перед образами на полу валялся и вопил страшно. А до меня слухи доходили — ночью-то он каялся, а днем-то лютовал, головы рубить приказывал и на кол сажать людей невинных...
Но понесла я! Сжалился Господь! Одно твердила — Господи, пошли сыночка, Господи, пошли сыночка! Сыночек — мое спасение, пошли сыночка!
Родила во благовременье сыночка Митеньку!
Рожала легко, я ж крепкая, дородная, мне бы рожать да рожать...
(Инокиня Марфа замолкает, вздыхает, утирает глаза белым вышитым платком — неожиданно роскошным для монашеской кельи).
Тут-то ясно стало мне — вот она, Божья награда. За все муки мои, за слезы мои — царевича мне даровали, Митеньку моего богоданного. И, значит, отныне я — доподлинно царица. И могу малость дух перевести...
Седьмая жена, говорят, не считается! Грех один, а не венчанье! Да венчали ж! И сыночек мой — царского рода-племени!
Государь сам подтвердил это — заболев, велел боярам царевичу Митеньке присягать. И многие присягнули. Потом выздоровел — и сам той присягой сильно был недоволен, да куда деваться? Слово-то не воробей, вылетело — не поймаешь, а присягу Господь слышит!