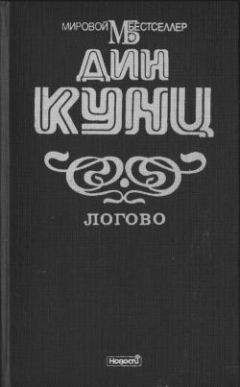Вскоре Вассаго начал зябко поеживаться.
Жар в его груди уступил наконец место беспощадному холоду. Он поднял руку, поднес ее к щеке. Лицо было холодным, но пальцы были еще холоднее, как у статуи Давида, которой он всякий раз восхищался, когда – в ту пору еще один из живущих – оказывался в мемориальном парке кладбища „Форест Лоун“.
Так-то оно лучше.
Открывая дверцу машины, он еще раз оглянулся на омытую дождем ночь. И снова, но уже по собственной воле, произнес:
– Линдзи?
Ответом ему была тишина.
Кто бы она ни была, видимо, время их встречи еще не пришло.
Ну что же, он будет терпелив. И, хотя был явно заинтригован и раздираем любопытством, решил, что случившееся непременно должно получить какое-то дальнейшее развитие. Терпение было одним из главных достоинств мертвых, и он, пока еще только на половине пути в страну Смерти, постарается выдержать это испытание временем.
Во вторник, ранним утром, едва наступил рассвет, сонливость Линдзи как рукой сняло. Все ее тело, каждый мускул и каждая жилочка ныли и болели, и то немногое время, что ей удалось поспать, ни в коей мере не повлияло на ее вконец истощенный организм. Но она упорно отказывалась принимать снотворное. Не желая откладывать дела в долгий ящик, она настояла, чтобы ее немедленно отвезли в палату к Хатчу. Дежурная сестра, предварительно посоветовавшись с Джоунасом Нейберном, который все еще находился в больнице, повезла ее в кресле-каталке по коридору в палату 518.
Нейберн, с опухшими от бессонницы красными глазами и весь взлохмаченный, тоже находился там. Простыни на ближайшей к двери кровати развернуты не были, но имели весьма помятый вид, словно доктор несколько раз в течение ночи ложился на них отдохнуть.
К этому времени Линдзи уже кое-что выяснила о Нейберне – меньшую часть от него самого, большую от нянечек и медсестер – и знала ходившие о нем легенды. До недавнего времени он был известен как крупный специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, но в течение последних двух лет, после потери жены и двух детей, погибших ужасной смертью, он большую часть времени отдавал реанимационной медицине в ущерб своей хирургической практике. Он был не просто предан своей работе. Он был одержим ею. В обществе, которое только стало приходить в себя после тридцатилетнего периода потворства личным амбициям и "я-первизма", легко было восхищаться таким бескорыстным человеком, каким был доктор Нейберн, и все вокруг действительно боготворили его.
Линдзи же просто была от него без ума. Ведь он спас жизнь Хатчу.
Несмотря на свой несколько помятый вид и воспаленные от бессонной ночи глаза, Нейберн быстро подошел к занавеси, отделявшей кровать Харрисона от остальной комнаты, и отдернул ее, затем, ухватившись за ручки кресла Линдзи, подкатил ее ближе к мужу.
Ночью прошел сильный ливень. Теперь же утреннее солнце, пробившись сквозь щели между ребристыми пластинками жалюзи, покрыло одеяло полосками золотистого света и тени.
Из-под этой псевдотигровой шкуры виднелись только одна рука и лицо Хатча. И, хотя кожа на них имела тот же полосатый окрас огромной кошки, было заметно, что он очень бледен. Сидя в кресле и рассматривая лежащего за кроватной решеткой Хатча под необычным ракурсом, Линдзи, заметив у него на лбу окруженную расползшимся во все стороны уродливым синяком рану с наложенным на нее швом, почувствовала, что у нее начинает мутиться в голове.
Если бы не показания монитора и едва заметное движение вверх-вниз одеяла на его груди, она бы ни за что не подумала, что он жив.
Но он был жив, жив, и она ощутила, как в груди у нее стеснило дыхание и к горлу подкатил ком, – верные признаки подступающих слез, такие же верные, как молния, предвещающая близкую грозу. То, что она может сейчас заплакать, ужасно ее удивило. Ее грудь взволнованно вздымалась.
Она не плакала ни тогда, когда их "хонда" сорвалась с обрыва в пропасть, ни во время тяжелейших физических и эмоциональных испытаний, которые ей выпало пережить в эту кошмарную, только что прошедшую ночь. Она не гордилась своим стоицизмом, она просто была такой, какой была.
Нет, не совсем так.
Такой, какой она стала во время страшного поединка Джимми со своей ужасной болезнью. С того момента, как был поставлен диагноз и обнаружен рак, ему оставалось жить ровно девять месяцев, столько же, сколько она потратила, чтобы зачать и с любовью выносить его в своем чреве. И в конце каждого дня этого медленного угасания ей хотелось забраться с головой под одеяло и, свернувшись калачиком, дать волю слезам и плакать до тех пор, пока они из нее не вытекут до конца и она, пересохнув, не превратится в прах и не исчезнет с лица земли. Сначала она иногда плакала. Но ее слезы очень сильно пугали Джимми, и она поняла, что любое выражение душившего ее горя было не чем иным, как выражением жалости к самой себе. Даже когда она плакала на стороне, он догадывался об этом; он всегда был чересчур восприимчивым и мнительным для своих лет, а болезнь только обострила эти свойства его характера. Тогдашняя теория иммунологии придавала огромное значение положительным эмоциям, смеху и уверенности, как успешному оружию, которое необходимо использовать в борьбе с тяжелыми недугами. И она научилась подавлять в себе ужас при мысли, что может потерять его. Теперь он всегда видел ее только смеющейся, любящей, уверенной в нем, в его мужестве, не сомневающейся в том, что он одолеет свою страшную болезнь.
Ко времени смерти Джимми Линдзи так великолепно научилась подавлять в себе желание плакать, что теперь вообще уже не могла этого делать. Лишенная возможности дать выход отчаянию в слезах, она замкнулась в себе, в своих переживаниях. Стала быстро худеть – сначала на десять, пятнадцать, а в конце и на все двадцать фунтов, – пока не превратилась в ходячий скелет. Перестала мыть голову и причесываться, следить за собой и своей одеждой. Убежденная, что она не оправдала ожиданий Джимми, пообещав ему свою помощь в борьбе с болезнью и не оказав ее, она считала, что не имеет права радоваться пище, следить за своей внешностью, получать удовольствие от книг, кинофильмов или музыки – вообще от чего бы то ни было. С течением времени Хатчу пришлось приложить немало усилий и терпения, чтобы доказать ей, что ее желание взять на себя вину жестокой, коварной и слепо разящей судьбы было такой же болезнью, как и болезнь Джимми.
И, хотя она так и не сумела возвратить себе умение плакать, ей все же удалось выбраться наружу из того эмоционального провала, в который она забилась. И с тех пор она так и жила на краю пропасти, всегда рискуя сорваться вниз.