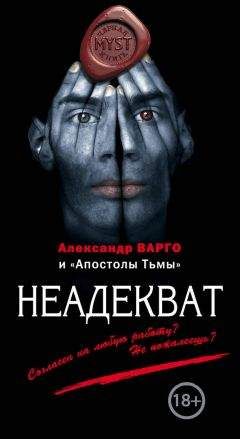Киваю. Попытку завязать разговор расцениваю, как первый шаг к топке льда, вставшего между мной и коллективом после начала частных уроков. Уже через пару минут понимаю, как жестоко ошибался…
– А вот ты, Диська, когда-нибудь думал, – продолжает он, понизив голос, чтобы не услышала Марина, – что мы тут оказались не просто так?
Иногда человеку просто жизненно необходимо исповедаться. Если прижмет, то кому угодно – попутчику в поезде, таксисту, соседу по очереди в ЖЭУ, продавцу в магазине. Соратнику по неволе, запертому в Особняке. Это закон нашей природы, мнительной и болтливой.
Исподлобья смотрю на Чуму, завязываю шнурки кроссовок. Говорю:
– Сейчас не время.
Игнорируя, поднимает взгляд к потолку и продолжает:
– Ты ж, Диська, тоже немало грешков за спиной оставил?
Молчу. Люди часто рассказывают свои истории не для того, чтобы их услышали, а чтобы излить душу. Отодвигаю деревянную заслонку воображаемого конфессионала. Давно ли ты исповедовался, сын мой?
– Я вот думаю иногда… – Крутит в пальцах папиросу, ломая и просыпая на затянутый ковром пол темно-коричневые крошки табака. – Что местечко это почище любой тюрьмы. Такие штуки вспомнить заставляет, братишка, что аж дурно…
Шаги по коридору. Потная мальчишеская ладошка на ручке туалета, вцепившаяся так, что потом еще неделю будет болеть. Задержанное дыхание и страх, сковавший мышцы. Если он дернет дверь на себя, я не удержу. И драться сил не найду…
Чума прав, но я не спешу подтверждать.
– Знаешь, случилась у меня как-то одна история… – Чумаков шевелит сухими губами, с головой погрузившись в воспоминания. – Молодой был, дурной. Забыл уже. А недавно вспомнил и места не нахожу. Хочешь послушать?
Мне плевать.
Десять раз «Славься, Мария» и еще двадцать «Отче наш», и можешь проваливать на все четыре стороны. Он все равно втюхает свою уникальную историю, так почему бы не мне? Пожимаю плечом, но снимаю с кроватной спинки ветровку – демонстративно, намекая, что скоро уйду на работу.
– Не знаю, что накатило тогда, – урка криво улыбается, не заметив моего жеста. Погружен в себя, воспроизводя слова с монотонностью магнитофона. – Увидел мальчишку этого на улице и подломилось что-то внутри. Лет девять, может чуть меньше. Он такой… такой светлый и счастливый был… Не подумай, чтобы я в мальчиках красоту видел, но тут прямо не сдержался. Мне наверное…
Он подбирает нужное слово.
А я вдруг замираю, чувствуя под футболкой на левом боку струйку ледяного пота.
– Наверное, мне ему эту счастливостьсломать захотелось, – спокойно говорит Валентин Дмитриевич Чумаков, глядя в низкий потолок. – Грех, конечно. Да и отмотал я свое за дурость молодую. О многом не жалею, Диська! А пацан тот до сих пор из головы не идет. Душу бы отдал, чтобы вернуться и исправить…
Лед подбирается к моим кишкам. Кровь стучит в висках. Я боюсь пошевелиться, потому что кости стали стеклянными и могут растрескаться под давлением скрученных мышц.
– Пошел за ним от школы, – равнодушно продолжает Валентин Дмитриевич Чумаков. – Он в лифт, я аккуратно по лестнице. Сам не знаю, что делать хотел. Этаж вычислил, поднялся. Обошел все четыре квартиры, прислушался. А затем аккуратненько так на одну ручку дверную надавил, а она возьми – да откройся.
Третий раз за последние полчаса вспоминаю шаги по зеленому линолеуму коридора. Вспоминаю охваченный огнем мочевой пузырь, к счастью, только что опустошенный, или бы его содержимое затопило Вселенную…
Мне жутко и мерзко, хочется кричать. Чума продолжает:
– Постоял малеха. Мало ли кто двери в дом не запирает? Может, хозяева алабая держат, так зачем рисковать? Да и время не такое дикое было… В общем, догадался я, что пацан этот именно тут живет. Ранец на полу, ботинки разбросаны, крохотные такие. И что никого в квартире больше нет, я тоже понял. Не знаю как, но понял. Ну, тогда сам-то и вошел. Дверь закрыл на задвижку и только тогда догнал, что хочу с этим мальчонкой сделать. Аж затрясло всего, не поверишь…
Я смотрю на Валька Чумакова, и наконец понимаю, о чем именно он спрашивал, когда подсел на свободную кровать. Чудовище, выглядящее человеком, действительно наказано. Причем не строгачом, на котором уже отсидело, и не черными укусами игл по исколотым венам, где много лет кипел паленый герыч. Оно наказано попаданием сюда – в этот огромный тихий дом, откуда нет выхода.
Говорю:
– Мне пора.
Кровь отливает от лица. Бледнею. Я белый, как молоко матери. Я подвенечное платье и японский погребальный саван. Я смирительная рубашка, не позволяющая ни шевелиться, ни дышать полной грудью.
Встаю, комкая куртку в ладони. На негнущихся ногах направляюсь к выходу.
Марина смотрит мне вслед из-под полуопущенных век.
Пытаюсь понять, в чем я провинился.
Где нагрешил так сильно, что дорога моей жизни изогнулась, забросив в частный сектор к порогу необычного дома с необычной семьей. Разравниваю бледно-серый гравий подъездной дорожки, стараясь не оглядываться на окна. На меня внимательно смотрит Жанна.
Размышляю.
Уже не ставлю вопроса, стоит ли побег риска. Вспоминаю мертвого пони, счастливые окровавленные лица. Присматриваюсь к булыжникам багряного забора и пытаюсь проанализировать график Себастиана. Но пока возможностей нет, я извожу себя пустыми размышлениями. Мы все так делаем, когда не в силах контролировать ситуацию…
В небе – огромная стая голубей. Шумная, шуршащая. Заходит по дуге, будто собирается атаковать. Опираюсь на специальные длиннопалые грабли, с тоской уставившись вверх. Когда стая достигает воздушного пространства над Особняком, ее словно сдувает ветром.
Я уже видел подобное – охотящийся коршун, величественный и грозный, несколько дней назад наткнулся на стеклянную стену, окружающую дом. Птица вздрогнула, будто в нее попала пуля. Обронила пару перьев, а затем кинулась наутек со скоростью, которой я даже не предполагал…
Голубей уносит прочь – нечто невидимое, но надежно охраняющее усадьбу от всего внешнего мира. В чем я провинился, попав сюда?
Иногда ночами я слышу скрежетание каменных жерновов. Сквозь неспокойный сон. Откуда-то снизу, из подвального подвала, если таковая острота будет дозволена. Это моя память перетирает воспоминания в муку, пытаясь просеять бесцельно прожитые дни и найти окаменевшее зерно. Пытаясь найти причину, по которой я здесь.