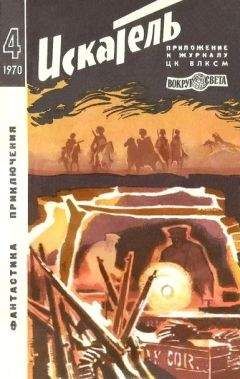Был теплый и душный сентябрьский день, кругом стояла тишина, чувствовалось приближение дождя. По временам с юго-запада долетали внезапные порывы ветра. Один из них был такой сильный и внезапный, что он захватил меня врасплох и отклонил самолет в сторону. Я вспомнил о тех недавних еще временах, когда резкие порывы ветра, завихрения и воздушные ямы представляли для машин реальную угрозу, и порадовался тому, что теперь созданы мощные двигатели, для которых такие опасности нипочем. Как раз в тот момент, когда я добрался до гряды облаков на высоте 3 тысяч футов, хлынул дождь. Боже мой, что это был за ливень! Он барабанил но крыльям самолета, хлестал мне в лицо, заливал переднее стекло, так что я с трудом мог что-либо рассмотреть. Тогда на малой скорости я пошел вниз. Дождь между тем превратился в град, а потом кончился так же неожиданно, как начался. Я снова стал подниматься. Все было в порядке — ровно и мощно гудел мотор: все десять цилиндров работали как один. Вот когда я подумал о преимуществах новых двигателей, оснащенных глушителями: теперь мы можем определить на слух малейшую неисправность в их работе. Раньше ничего нельзя было разобрать из-за чудовищного шума.
Около 9.30 я приблизился к облакам вплотную. Далеко подо мною расстилалась обширная равнина Сэльсбери. С полдюжины самолетов совершали обычные полеты на высоте одной тысячи футов. На зеленом фоне они казались маленькими черными листочками. Думаю, они удивлялись, глядя на мена, — зачем я поднялся так высоко, И тут же влажные струи пара закружились перед моим лицом. Стало мокро, холодно и неуютно. Облако было темное, густое, как лондонский туман. Стремясь скорее добраться до ясного неба, я так круто стал забирать вверх, что раздался автоматический сигнал тревоги и машину пришлось выравнивать. Мокрые крылья, с которых ручьями стекала вода, утяжелили вес машины в большей степени, чем я ожидал, но несколько минут спустя я все же достиг более легких облаков, а вскоре показался и верхний слой. Представьте — белый сплошной „потолок“ сверху и темный сплошной „пол“ внизу. А между ними с трудом двигался вверх по большой спирали мой моноплан. Каким отчаянно одиноким чувствуешь себя в этих облачных просторах! Только один раз мимо меня промелькнула стая маленьких птиц. Думаю, это были чирки, но я никуда не годный зоолог. А сейчас, когда мы, люди, сами стали птицами, нам нужно знать о наших братьях все.
Ветер шевелил подо мною огромную равнину облаков. Как-то раз сильный вихрь образовал подобие водоворота из пара, и сквозь него, как через туннель, я увидел далекую землю. Большой белый биплан пролетал подо мною далеко внизу. Думаю, что это был почтовый утренний самолет, совершавший рейсы между Бристолем и Лондоном. Затем тучи снова сомкнулись, и опять меня охватило страшное одиночество.
После десяти часов я достиг края верхнего покрова облаков. Он состоял из красивого прозрачного тумана, быстро движущегося с запада. Все это время ветер непрерывно усиливался, и уже было очень холодно, хотя мой альтиметр показывал только 9 тысяч футов. Я поднимался все выше. Гряда облаков оказалась более плотной, чем я предполагал, но с высотой она делалась все тоньше и в конце концов превратилась в легкую золотую дымку. Вдруг в одно мгновение я прорвался сквозь нее, и теперь надо мной было ясное небо и сверкающее солнце. Вверху был голубой и золотой купол; внизу, насколько мог окинуть взгляд, простиралась сверкающая серебром огромная мерцающая равнина. Было четверть одиннадцатого, стрелка прибора показывала 12 800 футов. Но я продолжал подниматься. Слух был поглощен глухим жужжанием мотора, а глаза все время следили за часами, указателем числа оборотов, уровнем бензина и работой бензинового насоса. Не удивительно, что летчиков считают храбрыми: когда приходится следить за таким количеством приборов, бояться нет времени. При 15 тысячах футов вышел из строя мой компас, и я ориентировался только по солнцу.
С каждой тысячей футов подъема ветер усиливался. Моя машина стонала и дрожала всеми стыками и заклепками, а когда я делал виражи для поворота, ветер относил ее в сторону; но я вынужден был то и дело поворачивать, чтобы подниматься по спирали: по моим предположениям, воздушные джунгли располагались прямо над Вильтширом, и все мои труды могли оказаться напрасными, если бы я пересек внешние края облаков в каком-нибудь более отдаленном месте.
Когда я добрался до уровня 19 тысяч футов (это случилось около полудня), ветер достиг такой силы, что я с некоторым беспокойством стал смотреть на опоры крыльев самолета, ежеминутно ожидая катастрофы. Я даже освободил парашют и прикрепил его крюк к своему поясу, приготовившись к худшему. Теперь малейшая неисправность машины могла стоить мне жизни. Но моноплан держался храбро, хотя каждый трос, каждая стойка вибрировали и гудели, как струны арфы. Чудесно было видеть, что, несмотря на удары и толчки ветра, машина была все же победителем природы и хозяйкой неба.
Ветер то бил мне в лицо, то проносился со свистом за моей спиной. Царство облаков подо мною отодвинулось на такое расстояние, что серебряные складки и холмы сгладились в ровную сверкающую поверхность.
И вдруг испытал страшное, неведомое раньше ощущение. Я знал по рассказам других пилотов, что это значит — быть в центре вихря, но никогда не испытывал этого на себе. Гигантский стремительный поток ветра, в котором я несся, имел в себе вихревые водовороты. Совершенно неожиданно я попал вдруг в самый центр одного из них. Машина вошла в штопор с такой скоростью, что я почти потерял сознание. Самолет падал как камень и сразу потерял тысячу футов. Только пояс удержал меня в кресле. Я остался на миг в полубессознательном состоянии. Но я способен выдерживать высокие перегрузки — это мое большое преимущество как летчика. Я пришел в себя и почувствовал, что падение замедлилось: тогда я выровнял самолет и в одно мгновение выскочил из центра вихря. Тогда, все еще потрясенный этим случаем, но уже радуясь победе, я повернул самолет вверх и снова начал настойчивый подъем по восходящей спирали. Сделав большой круг, чтобы избежать опасного места, моноплан вскоре оказался выше воронки целым и невредимым. Спустя час я был уже на высоте 21 тысячи футов над уровнем моря. К большой моей радости, теперь с каждой сотней футов подъема ветер становился все слабее. Но было очень холодно, и я почувствовал особое состояние, вызываемое разреженностью воздуха. Впервые за этот полет я открыл кислородный баллон. Кислород пробежал по моим жилам, и я почувствовал восторг, почти опьянение. Я кричал, и пел, поднимаясь все выше и выше сквозь холодный и безмолвный мир.