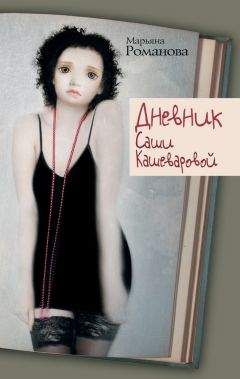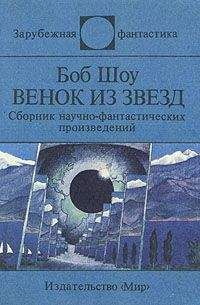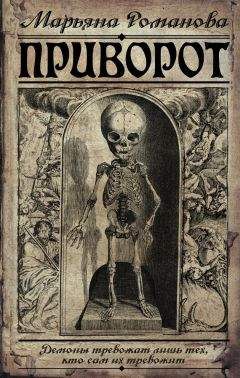рассохшимися бревнами за печью, скрипела басовито, как будто бы вздыхала. Ангелина шутила (сама с собою), что это Том Уэйтс мира насекомых. Очарованный, усталый и старый, все уже было, ничем нельзя удивить, будущее настолько короче прошлого, что это давно не пугает, а даже как будто дает надежду, которую невозможно сформулировать земным языком. И вот сидит он на сухом и теплом бревне и каждую ночь заводит хриплые блюзы. Цикады, обитавшие в траве под окном ее спальни, были, напротив, нагловато-напористыми. В их стрекоте не было ни мелодики, ни драмы, зато он не прекращался ни на минуту и был очень громким.
Пение цикад обычно успокаивало и усыпляло, но сейчас за мерным стрекотом Ангелина не могла различить другие звуки – те, которые доносились из кухни и так напугали ее. Она напряженно прислушивалась к темноте, но скрип цикад был как будто плотным занавесом, за которым проглядывают смутные тени, даже не понять, созданные ли воображением или существующие на самом деле. В какой-то момент женщина почти поверила, что все это нервы, подступающая депрессия, темная и ледяная, как зимнее море, в котором электрической медузой плавает предменструальный синдром. Лина отвернулась к стене, уткнулась носом в пыльный старый гобелен, который умиротворяюще пах деревом и плесенью, но вдруг ее все еще напряженный слух различил новый звук, заставивший подскочить на кровати. Она бы и подумать раньше не могла, что умеет перемещаться в пространстве с такой кошачьей резкостью, но в тот момент ею руководил инстинкт, а не логика.
Чьи-то шаги. Неуверенные, шаркающие, совсем тихие, как будто незнакомец обут в войлочные тапочки. Ангелина затаила дыхание, прислушиваясь. Но ни концерт цикад, ни собственное сбившееся дыхание, ни даже живость воображения, которой она всегда гордилась, больше не могли стать достойным объяснением происходящего. В ее кухне точно кто-то находился. И вел себя весьма странно. В его движениях не было ни торопливой истеричности грабителя, ни куражной удали деревенского пьяницы, проникшего в чужой дом, чтобы смеха ради напугать жильцов. Нет, этот «кто-то» как будто бы просто шел вперед, медленно, но уверенно. Шаги его приближались.
Кухня примыкала к сеням, в которых не было ни одного окна. Ангелина помнила: там повсюду – на полу, на табуретках, на старом ящике из-под бананов – стоят трехлитровые банки с соленьями. Артистический размах и врожденный перфекционизм художницы заставили ее окунуться в деревенские будни с головой. По утрам она босиком ходила по огороду, по прохладной черной земле, иногда останавливалась, точным движением выдергивала из земли морковку, обтирала ее фартуком и тут же съедала, чувствуя себя чуть ли не Маугли. С хозяйкой дома имелась договоренность: дачники имеют право съесть хоть весь урожай. И это было справедливо, потому что за дом с них содрали втридорога (у местных жителей слова «москвич» и «богач» почитались за синонимы). Ангелина решила сделать запасы. Варила варенье из райских яблочек, засолила крошечные патиссоны, огурчики, помидоры, грибы. Домашние заботы умиротворяли и как будто роднили ее с природой.
Сейчас, прислушиваясь к осторожным чужим шагам, женщина вдруг подумала: там же тьма кромешная, почему проникший в избу человек не задевает банки ногой или рукой? Она сама не рискнула бы пойти туда без фонаря – обязательно что-нибудь опрокинула бы. Неужели чужак настолько хорошо видит в густой темноте?
Как рысь или волк…
Ангелина поежилась. И вспомнила: в одном из ящиков прикроватной тумбочки лежат огромные портновские ножницы. Бесшумно отодвинув ящик, нащупала их рукой. Атаковать она не собиралась – а вдруг и правда вор в дом забрался? А рисковать жизнью из-за электрического чайника или на что он там мог позариться – не стоит. Но и ждать с овечьей покорностью – не в ее характере. Тихонько проскользнув в крошечную каморку за печью, она притаилась там. Маленькое пространство создавало иллюзию безопасности – по крайней мере, к ней никто не мог подкрасться со спины. А ножницы держала наготове, как кинжал. Они были старыми, затупившимися, со следами ржавчины на лезвиях, но в крайнем случае, если рука ее будет твердой, и такое оружие может спасти ей жизнь.
Так Ангелина и стояла какое-то время, прислушиваясь к темноте. Шаги смолкли. Странно… Если ночной посетитель тихо ушел с добычей, до нее донесся бы скрип входной двери. Но, похоже, он даже не пересек сени в обратном направлении. Просто остановился посреди комнаты и замер.
Ее била нервная дрожь. Прошло, должно быть, три четверти часа. Она уже не была уверена, что шаги чужака ей не пригрезились. Все-таки она так перенервничала из-за дочери. Все-таки почти каждый день пила коньяк, а сегодня водку. Все-таки всегда боялась умопомешательства – она же носила в себе дефектный ген. Ну да, некоторые ее родственники по отцовской линии сгинули в психиатрических лечебницах. Самой молодой из них была папина сестра, тетка Ангелины. Женщина в свои тридцать восемь решила, что деревья, растущие во дворе, хотят ее убить – тянутся к окну, чтобы с помощью ветра разбить стекло, накинуться на нее и нанизать на ветки, как шашлык. И вот однажды (Ангелине тогда было всего двенадцать) посреди ночи раздался телефонный звонок – папина сестра буквально выла в телефон. Все так испугались, что едва смогли разобрать ее странный монолог о деревьях-убийцах. Отец собрался и поехал к ней, а утром тетю Аню забрали в лечебницу, откуда она до самой смерти не вышла. Ангелина всю жизнь помнила эту историю. И тетю Аню, которая была улыбчивой и доброй, любила играть с ней, маленькой, и вырезала для нее кукол из картона. Ангелине всегда становилось страшно при мысли, что человек может в один момент потерять себя. И больше никогда не нащупать.
А ведь ей сейчас было как раз тридцать восемь лет…
Наконец она решила обойти дом. Осторожно – колени у нее дрожали, – крадущейся походкой двинулась вперед, держа ножницы перед собой, готовая в любой момент нанести удар. Пересекла самую большую комнату, которую хозяйка старомодно называла залой, вышла в сени и резко включила свет. Никого. Банки с вареньями и соленьями стоят на своих местах. Старый радиоприемник – тоже на месте, на холодильнике. Вор обязательно прихватил бы его, ведь в деревнях воруют все, даже старые алюминиевые вилки. Дыхание немного успокоилось, она пошла дальше. Сразу за сенями находилась кухонька, примыкающая к застекленной террасе. На улице уже светало.
Вдруг Ангелине стало холодно. Она была босой, в легкой ночной сорочке из тончайшего батиста. Однако дни стояли такими жаркими, что ночь, когда воздух хоть чуть-чуть остывал и из оврагов выползали туманы, воспринималась как благодатное море, в которое ныряешь с головой. Она всегда любила