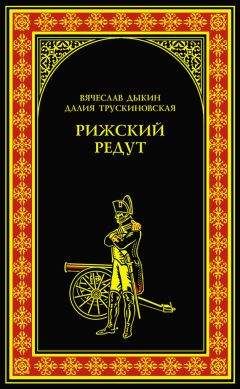А тем временем в кладбищенском храме отслужили литургию, потом отпели покойницу и понесли на кладбище. Голубевы побрели в хвосте процессии, тихо переговариваясь — они не могли никак проникнуть в замысел Ксении и собирались домой, да все не могли оторваться от толпы. Только когда погребение завершилось и люди стали расходиться, они переглянулись, и в глазах было одно: ну что же, человека в последний путь проводить — праведное дело, да только блаженненькая наша — не святое Евангелие, может и соврать…
Как раз в это время Матвей, которого мать с дядей кое-как увели от могильного холмика и уже почти доставили до ворот, вдруг опомнился, оттолкнув всех, кто случился на пути, он кинулся бежать туда, где ни за что нельзя было оставлять ее, пусть и отпетую, но там, под землей, возможно, живую! И почти добежал, и сердце сжалось от осознания безнадежности, и он рухнул было наземь, но две простенько одетые женщины подхватили его и осторожно опустили на траву.
Он очнулся и увидел два лица — сорокалетнее, круглое, в платке, завязанном спереди на хвостатый узел, и молодое, румяное, с огромными серыми глазами.
— Опомнился, батюшка? — спросила та, что старше. — Вставай-ка, Христа ради.
Юная же, семнадцатилетняя, раскрасневшись, подала ему руку…
* * *
Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Но не во власти ли Божьей вообще обойтись без мехов, а подвесить в воздухе меж ладоней рубиновый шар вина? Пленка, что удерживает его, не давая расплескаться, непостижима для человеческого разума и возможностей, но Бог создает ее единым напряжением мысли, а мехи остаются лежать в углу вместе с кислым запахом кожи и следами прикасавшихся к ним грязных рук.
Так думала Ксения, идя по Большой Гарнизонной. Ей больше не было нужды сидеть на голубевской лавочке — видимо, ее замысел счастливо совпал с Божьим. И это чувство единения несказанно радовало ее.
— Вот похоронил он свою Аксиньюшку, похоронил, бедненький, — негромко сама себе говорила Ксения. — И пусть земля ей будет пухом. Новое вино должно быть, новое вино… Зачем беспокоить покойницу, зачем ее звать? Пусть себе лежит Аксиньюшка…
Она понимала, что не скоро еще Матвей ощутит зарождение новой любви, и одновременно ощущала зарождение этой новой, сперва как паутинной тонкости ниточку, повисшую в воздухе там, где прошел взгляд, потом — как след от малозначительных слов в виде царапинок на памяти, потом непременно должно прибавиться еще что-то. Она отдавала Матвею то, что когда-то должно было спасти ее саму, и отдавала щедро. Сама она хотела было сравнить себя со старыми мехами, но сравнение запоздало. Но то, что она несла в себе, было все-таки старым вином, которому не место в новых мехах. И что-то непременно должно было измениться.
Она шла и шла, и вышла к Большой Невке, и нашла там тихое местечко, чтобы начать читать все положенные молитвы. С молитвами она срослась настолько, что они иногда вводили ее в некую пронзительную ясность души, когда видно на сто верст окрест, но видны не чухонские безнадежно плоские равнины, где стал Петербург, а иное — побуждения и печали людей, равнины эти населивших.
Ксения опустилась на колени, перекрестилась и начала.
Немного времени как будто и миновало, только стало темнеть, и ясность снизошла на нее. Но — иная.
Ксения увидела вокруг себя кирпичные стены и по высокому крошечному окошку догадалась, что она — в подвале. Очень не понравился ей этот подвал, она заозиралась в поисках выхода и увидела троих парней, совсем еще молодых, в грязно-зеленых накидках и круглых зеленых шапках с торчащими краями.
Она поразилась тому, что тут делают парни — ведь место более чем опасное, и тут снаружи грохнуло — как будто обрушилась колокольня.
— Уходите-ка отсюда, миленькие, — сказала Ксения. — Сейчас и от подвала ничего не останется, как выйдете…
Она увидела то, что было снаружи, одинокую уцелевшую стену с окнами, которая ей сильно не понравилась, могла в любую минуту повалиться, потом — горящий сарай, потом — большую яму, которая одна и была в этом аду безопасным местом.
И точно — вокруг был ад. В небе рычало и ревело, на земле гремело и трещало, воздух был неприятен, продымлен.
— …так и направо, там и схоронитесь, — велела она парням.
— А ты, бабушка, кто? — начал было один, но другой перебил:
— Сашка, она же по-русски говорит!
— Ксенией зовут, — впервые за многие годы она произнесла вслух собственное имя. — Бегите-ка милые, Господь с вами!
И следила взором, как они поодиночке перебегают к той яме, и прячутся, а на месте подвала возникает грохочущая кутерьма с летящими ввысь кирпичами…
— Кто же тут с кем воюет? — спросила сама себя Ксения и тут же дала ответ — разве это имеет значение, когда гибнут люди?
И тут же раздался в ушах жалкий голос:
— Матушка Ксения, смилуйся, на тебя вся надежда, выручай! Сил моих больше нет!..
Она хотела было ответить, что просить нужно Христа, Богородицу, но уж никак не ее, и тут поняла, что свершилось — и новые мехи, и новое вино соединились наконец, и возникла иная сущность, по виду — Ксения, которую знала вся Петербургская Сторона, и одновременно — те руки, которыми Господь творит добро.
Она вздохнула с облегчением — все в жизни наконец установилось! — и поспешила на зов.