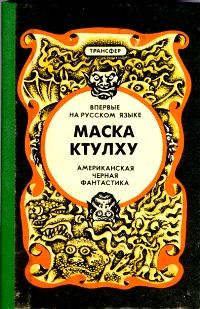— Где твой отец? — спросил я.
— У себя. Он не хочет выходить. Дверь заперта, и я не могу войти к нему.
Я поднялся по лестнице к дядиной двери, намереваясь открыть ее силой. Элдон, протестуя, шел за мной следом и уверял меня, что все бесполезно, что он уже пытался, и у него ничего не получилось. Почти у самой двери, не сделав следующего шага, я был остановлен непреодолимым барьером — чем-то невещественным, стеной холода, просто зябким воздухом, сквозь который я не мог пройти, как ни старался.
— Вот видишь! — вскричал Элдон.
Я снова и снова пытался дотянуться до двери сквозь эту непреодолимую стену воздуха, но не мог. Наконец, в отчаянии я стал звать дядю. Но никто не ответил мне — ответа не было вообще, если не считать рева великих ветров где-то за этой дверью, ибо хоть шум их и был громок в нижнем холле, здесь, в апартаментах дяди, их рев стал невероятно мощным и, казалось, что в любой момент стены разлетятся вдребезги под натиском ужасных сил, отпущенных на волю. Все это время звуки шагов и вой все нарастали в своей силе: они приближались к дому со стороны моря, притом, казалось, они уже где-то рядом, будучи предвестием той поганой ауры зла, в которую был обернут Сандвин-Хауз. Внезапно в наше сознание ворвался иной звук — откуда-то с высот над нами. Он был настолько невероятен, что Элдон посмотрел на меня, а я — на него, как если бы мы оба ослышались. Мы услышали музыку и пение многих голосов — они поднимались и опускались, и слышались то ясно, то смутно. Но в следующее мгновение мы вспомнили источник этой музыки — то были зловещие и прекрасные звуки наших с Элдоном снов в Сандвин-Хаузе. Ибо она была прекрасной и воздушной лишь на поверхности, а внутри полнилась адскими обертонами. Тая сирены могли петь Улиссу, так прекрасна могла быть музыка в Гроте Венеры — прекрасна, но извращена злом, выраженным ужасно и явно.
Я обернулся к Элдону, стоявшему с широко раскрытыми глазами рядом со мной. Он дрожал.
— Там открыты какие-нибудь окна?
— У отца — нет. Он занимался ими последние несколько дней. — Он склонил набок голову и вдруг схватил меня за руку. — Слушай!
Завывание росло и ширилось теперь уже за самой дверью, сопровождаемое омерзительным болботанием, в котором можно было разобрать отдельные слова, некие жуткие сочетания звуков, так хорошо знакомые мне по запретным книгам Мискатоникского университета. То были звуки существ, связанных нечестивым союзом с Сандвинами, то был злобный выговор этих адских тварей, давно уже проклятых и изгнанных во внешние пространства, в отдаленные места Земли и Вселенной Старшими Богами с далекой Бетельгейзе.
Я слушал, и ужас рос внутри меня, питаемый моим бессилием; теперь уже меня щипал инстинктивный страх за собственное существование. Невнятная и грубая речь за дверью набирала силу и только изредка нарушалась резким звуком, издаваемым кем-то отличным от них. Теперь уже, однако, их голоса звучали отчетливо, поднимаясь и опадая вместе с музыкой, все еще звучавшей вдали, как будто группа прислужников пела хвалу своему повелителю — это был адский хор, единый в торжествующем вое:
— Йяа! Йяа! Угф! Шуб-Ииггурат!.. Ллойгор фхтагн! Ктулху фхтагн! Итаква! Итаква!.. Йяа! Йяа! Ллойгор нафлфхтагн! Ллойгор кф'айяк вулгтмм, вугтлаглн вул-гтмм. Айи! Айи! Ани!
Наступило краткое затишье, во время которого раздался еще какой-то голос, будто отвечая им: резкое, лягушачье кваканье слов, совершенно мне непонятых. В резком звуке этого голоса звучали ноты, смутно и поразительно знакомые мне, как будто когда-то прежде я уже слышал эти интонации. Это резкое кваканье доносилось все более неуверенно, горловые звуки, по-видимому, давались говорившему с трудом, и тогда за дверью снова поднялось это торжествующее завывание, этот сводящий с ума хор голосов, который нес в себе такое ощущение жути и ужаса, что никаким словам не под силу его описать.
Весь дрожа, мой брат вытянул ко мне руку, чтобы показать на часах, что до полуночи осталось лишь несколько минут. Близился час полнолуния. Голоса в комнатах продолжали нарастать в своей неистовости, ветер все усиливался — мы стояли как будто посреди ревущего в ярости циклопа. Между тем резкий квакающий голос зазвучал вновь, он становился все громче и громче — и вдруг перешел в самый жуткий вой, который когда-либо слышал человек, в вопль, визг потерянной души — души, одержимой демонами, утраченной на все времена.
Именно тогда, я думаю, мне стало ясно, почему этот резкий квакающий голос казался знакомым: он принадлежал вовсе не кому-то из посетителей моего дяди, но ему самому — Азе Сандвину!
В миг этого омерзительного просветления, которое, должно быть, снизошло и на Элдона, нечеловеческая какофония за дверью стала невыносимо пронзительной, демонические ветры грохотали и ревели; голова моя закружилась в вихре, я зажал уши ладонями… Этот миг я еще помнил — и более ничего.
Я пришел в себя и увидел склонившегося надо мной Элдона. Я по-прежнему лежал в верхнем холле на полу перед входом в комнаты моего дяди, а бледные светящиеся глаза брата встревожено вглядывались в мои.
— Ты был в обмороке, — прошептал он. — Я тоже. Я вздрогнул, испуганный звуком его голоса, казавшимся таким громким, хотя Элдон говорил шепотом.
Все было тихо. Ни единый звук не тревожил спокойствия Сандвин-Хауза. В дальнем конце холла лунный свет лежал на полу белым прямоугольником, мистически озаряя непроглядную тьму вокруг. Брат бросил взгляд на дверь, и я, нимало не колеблясь, поднялся и двинулся к ней, все же боясь того, что мы можем за нею найти.
Дверь по-прежнему была заперта; в конце концов, мы вдвоем выломали ее. Элдон чиркнул спичкой, чтобы хоть как-то осветить комнаты.
Не знаю, что рассчитывал увидеть он, но то, что мы обнаружили, оказалось выше самых диких моих опасений.
Как Элдон и говорил, все окна были заделаны так плотно, что внутрь не проникал ни единый лучик лунного света, а на подоконниках была разложена странная коллекция пятиконечных камней. Но оставалась еще одна точка входа, о которой дядя, по всей видимости, просто не знал: в чердачном окне, хоть и надежно запертом, в стекле оставалась крошечная трещина. Путь посетителей моего дяди угадывался безошибочно: влажный след вел в его комнаты от люка рядом с этим чердачным окном. Сами комнаты были в ужасном состоянии: ни одна вещь не осталась целой, если не считать кресла, в котором дядя обычно сидел. Действительно, было похоже, что бумаги, мебель, шторы — все с равной злобой разорвал некий свирепый вихрь.
Но наше внимание было приковано лишь к дядиному креслу, и то, что мы там увидели, пугало сейчас гораздо сильнее, чем вся аура ощутимого ужаса, некогда накрывавшая Сандвин-Хауз. След вел от чердачного окошка и люка прямо к дядиному креслу и обратно; это была странная, бесформенная цепочка отпечатков — некоторые напоминали волнистые змеиные изгибы, некоторые были отпечатками перепончатых лап, причем последние вели только в одном направлении — от кресла, где любил сидеть дядя, наружу, к той крохотной трещине в стекле чердачного окна. Судя по этим следам, что-то проникло внутрь и потом снова ушло наружу — вместе с чем-то еще. Невероятно, ужасно было даже думать об этом: что же здесь происходило, пока мы лежали за дверью без чувств, что исторгло из груди моего дяди этот жуткий вой, который мы слышали перед тем, как лишиться сознания?