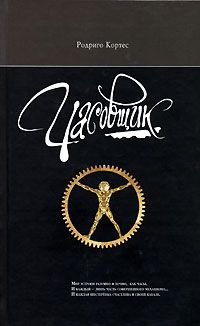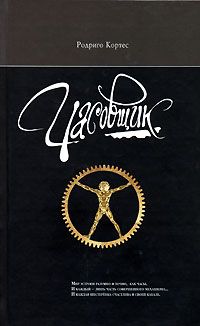— Изменники! — выдохнул Мади и бросился в монастырь.
Поверить, что восемьсот с лишним братьев не смогут отбить своего пастыря у предателей, было сложно. Но судья тут же увидел: монахи смертельно напуганы.
— Все, сеньор аль-Мехмед, — печально улыбались они, — нет больше нашего бенедиктинского монастыря. И нас тут тоже считай что нет, — по разным монастырям раскидывают.
— А кто же будет всем этим управлять? — потрясение обвел руками судья огромные мастерские.
— Орден… — тихо отвечали монахи, даже не считая нужным пояснять, о каком Ордене идет речь.
А еще через день в город приехал человек Ордена. Деловито обойдя новую собственность первого помощника Папы, он тут же назначил нового настоятеля, приказал немедленно возобновить работу мастерских и лично, безо всякой охраны, пришел в городской суд.
— Сеньор Мади аль-Мехмед?
— Да, — встал из-за стола судья.
— Во исполнение королевского указа вы обязаны закрыть меняльную лавку семьи Ха-Кохен.
— А кто будет выдавать ссуды и менять монеты? — опешил судья.
— Орден, — сухо ответил монах. — Я уже выделил помещение и назначил ответственных братьев.
Разумеется, Мади отказался. Исполнить указ короля и запретить евреям их ремесло стало бы верхом беззакония. Но у него осталось такое чувство, как будто его город разбирают на части и процесс этот необратим.
Томазо потрудился на славу. В считанные дни несколько сотен ссудных лавок и обменных контор Ордена заработали по всему Арагону. Собственно, перехват ремесла произошел по всей католической Европе, но деталей Томазо не знал, а на все его расспросы Генерал отвечал только одно:
— Встанешь на мое место, сам все узнаешь. А пока ты отвечаешь только за Арагон. Вот Арагоном и занимайся.
Разумеется, выдавившие евреев орденские, конторы тоже не могли себе позволить менять луидоры на мараведи по номиналу, но и переводы внутри страны, и выдачу ссуд структуры Ордена гарантировали. И все-таки люди этих лавок сторонились.
Хуже того, кое-где указ подстегнул сопротивление королю, и гранды тут же влезли в немыслимые долги — само собой, не к Ордену, а к евреям, вооружили всех, кто был способен держать мушкет или хотя бы копье, и три четверти Арагона фактически оказалось вне пределов королевской власти. Теперь от масштабной войны с Бурбонами их удерживало только отсутствие решения Верховного судьи Арагона. И вот здесь роль бежавшего Антонио Переса возрастала как никогда ранее.
Первым делом от имени короля был отправлен запрос о возвращении Антонио Переса в королевскую тюрьму как виновного в предоставлении королю лживых донесений.
Верховный судья рассмотрел предоставленные ему документы и отказал.
— Я пришел к выводу, — сухо произнес Хуан де ла Нуса при встрече с главой депутации короля, — что Перес невиновен, а Его Высочество загодя приготовил ряд провокаций, направленных на подрыв суверенитета Арагона.
Понятно, что, говоря «Его Высочество», превосходно информированный о состоянии умственного благополучия короля Верховный судья имел в виду Орден. И понятно, что секретные сведения о планах Короны, то есть Ордена, предоставил ему Антонио Перес.
Тогда Переса обвинили в раскрытии государственных тайн, а главное, в фальсификации документов, и бывший королевский секретарь немедленно нанес ответный удар.
— Вот оригиналы писем, — аккуратно выложил он перед Верховным судьей стопку бумаг. — Да, юный Бурбон их не писал — вы и сами знаете почему.
Присутствующие представители кортеса, почти все — юристы, понимающе улыбнулись.
— Но уж почерк духовника королевы-матери вы, надеюсь, узнаете… да и рука Папы всем вам известна прекрасно…
Верховный судья прочитал верхний листок, побледнел, передал письмо ожидающим своей очереди представителям кортеса, и через четверть часа белые от ужаса юристы дали королевской депутации такую отповедь, что все претензии к беглому секретарю были мгновенно сняты.
В такой ситуации Томазо оставалось только организовать обычную анкету 19 на розыск Антонио Переса. Теперь бывшему королевскому секретарю вменялась вина пусть и банальная, зато неопровержимая: нарушение верности своему сеньору — королю.
Понятно, что адвокаты Переса начали его защищать, говорить, что должность королевского секретаря — публичная, не имеющая ничего общего с положением домашней прислуги, но дело было сделано. Превыше всего на свете ценящие честь и верность гранды от Переса отвернулись.
— Думаешь, они его выдадут? — первым делом поинтересовался приехавший в Сарагосу Генерал.
— Прямо сейчас — нет, — мотнул головой Томазо, — но это лишь начало.
Брат Агостино Куадра спал от силы два часа в сутки, все его время отнимали допросы. Нет, старый падре Эухенио сдался быстро. Сначала брат Агостино предъявил ему и аббатисе женского монастыря обвинение в попустительстве убийствам детей. О том, что между монастырями расположено огромное, из нескольких сотен могил, захоронение младенцев, знали в городе все. А когда Комиссар допросил участников убийств, обвинения на бывшего настоятеля посыпались, как из худого мешка.
Но торопиться не следовало: Комиссар хотел действительно громкого процесса, а для этого убиение невестами Христовыми своих детей не годилось. Быстрым и выгодным обещало стать дело Олафа Гугенота, но как раз оно застряло на том же месте, на котором и началось.
У брата Агостино имелось все: короткий донос Марко Саласара, показания множества свидетелей, своими глазами видевших жуткую клепсидру, жадно высасывающую воду из реки, и даже заключение маститых экспертов, подтвердивших, что иначе как с помощью нечистой силы такую махину заставить работать нельзя. Но проклятый Гугенот не сдавался.
Поскольку Мади аль-Мехмед предоставить Инквизиции городского палача категорически отказался, а Папа во избежание ненужных обвинений проводить пытки монахам не разрешал, Комиссар вызвал двух опытных человек из Сарагосы. Специальными тисками Олафу раздавили пальцы ног и рук, но он молчал.
Тогда его посадили на заостренную «кобылу» и превратили промежность в кровавое месиво, но часовщик лишь мычал, мотал головой из стороны в сторону и… так и не поддался. Комиссар даже приказал снять ему полосу кожи со спины, поскольку кто-то ему сказал, что некоторые грешники прячут подписанный с лукавым договор именно под кожей. Бесполезно. Олаф сознался лишь в оскорблении падре Ансельмо.
Самым обидным было то, что Олаф определенно был релапсусом 20. На его теле уже имелись очевидные следы давних пыток. Но об их происхождении мастер тоже молчал.