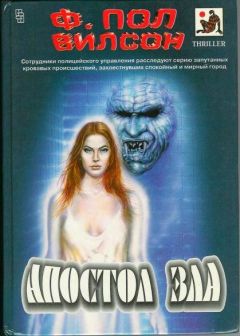— Кроме того, я чувствую, что заболеваю гриппом, и тяжело заболеваю. Честно признаться, меня уже знобит.
Сэм скривился в мрачной усмешке.
— Ты шутишь, да? Правда? Очередной розыгрыш?
— Посмотри мне в лицо, — предложил Ренни, зная, что должен выглядеть чертовски жутко. — Неужто это лицо парня, который шутит?
— Господи Иисусе, Ренни! Комиссар лично тебя требует! Ты не можешь сейчас уехать!
— Дело Дэнни Гордона прежде всего, Сэм. Ты же знаешь. — Он начинал горячиться. — Я гоняюсь за этим гадом долбанным пять лет и стою там же, где начал. Господи, ты же знаешь, чего мне стоило это дело! И вот я получил первую настоящую ниточку! Бог знает, куда она тянется, и ты думаешь, я отложу ее на потом? Нет, Сэм! Нет, будь я проклят! И хватит об этом.
Ренни выскочил из участка в холодную утреннюю серость, прежде чем Сэм успел попытаться еще раз наставить его на путь истинный. Он сбежал вниз по ступенькам в подземку, вскочил в почти пустой поезд, который только что прибыл. Мысли о Дэнни Гордоне навалились на него и подгоняли всю дорогу до Куинса.
Доехав до своей остановки и выбравшись наверх на улицу, он увидел, что тучи нависли ниже, в покалывающей лицо мороси начинают мелькать снежинки. Дождь со снегом. Но он, без дождевика и зонтика, словно этого не замечал. Вдобавок плохая погода вполне соответствовала настроению. Он закурил сигарету, быстрыми шагами прошел два квартала до своего дома, поднялся в квартиру на втором этаже.
Позвонив в «Америкэн», Ренни заказал билет до Рейли, быстренько собрал вещи, побросал в потертый старый чемодан несколько чистых рубашек, пару брюк, туалетные принадлежности, сверху вывалил прямо из ящика шкафа носки и несколько смен белья. Снял портупею и «смит-и-вессон» 38-го калибра, сунул их в чемодан между трусами. Надо успеть на электричку в аэропорт Ла-Гуардиа.
Но сперва кое-куда заскочить.
Улицы были уже в снегу. Он поднял воротник и пошел в южном направлении, миновал несколько кварталов, свернул на восток, пока не дошел до старого, обнесенного забором здания. Снежные хлопья падали ему на голову, таяли, холодные капли просачивались сквозь редеющие волосы, а он все стоял и смотрел на фасад. Слева от двери еще виднелась табличка:
ПРИЮТ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Не в первый раз он стоит перед домом, где жил Дэнни Гордон. Он приходит сюда регулярно, чтобы вновь повторить клятву, данную здесь пять лет назад.
Тогда тоже шел снег.
Дэнни Гордон мертв. Хотя тело так и не удалось найти, в душе у Ренни не оставалось сомнений; он не сомневается, что священник убил его. Райан не мог скрыться и разъезжать с мальчиком, который был так изуродован. Нет. Он завершил то, что начал, и испарился. Полностью скрылся из виду.
До этой самой минуты. Через столько лет наконец обнаружилась ниточка. Ренни готов идти за ней на край света.
Ради Дэнни.
«Я не знаю, где ты, мальчик, но знаю, что ты мертв. Не думай, что если у тебя нет ни родных, ни семьи, значит, ни единую живую душу не волнует, что с тобой сделали. Волнует. Меня. И я намерен добраться до того, кто это сделал. Я, Ренальдо Аугустино, обещаю тебе это».
Он отвернулся и пошел под снегопадом к станции подземки, шепча кому-то еще одно обещание.
«А когда я доберусь до тебя, отец Билл Райан, доставлю тебя сюда… но сначала заставлю отведать всего, что ты сделал с несчастным ребенком».
Северная Каролина
Насчет воровства Раф оказался прав. Дело пошло легче. Это совершалось против ее воли.
При каждой мелкой краже Лизл искала в себе чувство вины, в каждом случае пыталась найти признаки угрызений совести, но, несмотря на все старания, вины не чувствовала, сожаления становились все слабее, все легче, пока не разлетелись в прах, который сыпался как песок сквозь пальцы.
Она переменилась. Очень многое теперь видела в другом свете. Например, собственных родителей…
На Рождество ей пришлось ехать домой. Выхода не было. Не хотелось расставаться с Рафом, но его тоже ждала семья, так что на праздники они разлучились.
Это был полный кошмар.
И полное прозрение. Она никогда раньше не понимала, До чего ничтожны ее родители. Какие они мелочные, самовлюбленные. Они практически не обращали на нее внимания. В сущности, их интересовало только одно — они сами. Им надо было, чтобы она провела праздники дома, не потому, что они действительно хотели ее видеть, а потому, что так полагается: единственный ребенок на Рождество должен быть дома. Ничего из происходящего у них за дверью их не занимало и не волновало, за исключением того, как они выглядят в глазах окружающих.
Воспоминание об обеде в рождественскую ночь еще живо в памяти — как она сидела и слушала их разговоры. Мерзкие пошлости, колкости, ревнивые замечания. Тонко рассчитанные, целенаправленные и язвительные, оскорбительные намеки, когда они расспрашивали, как она собирается делать карьеру, не хочет ли еще раз выйти замуж и подарить им внуков, чтобы они догнали своих старых друзей Андерсонов, у которых уже трое. Она никогда раньше не знала родителей, и несколько месяцев с Рафом открыли ей глаза.
Все это было тягостно. И приводило в ярость. Лизл спрашивала себя, что, в сущности, сделали эти люди как родители. Кормили ее, одевали, давали крышу над головой — она признает, это уже кое-что, ибо не все родители делают для детей даже это, — но, кроме удовлетворения жизненных потребностей, чем обеспечили? Что они ей передали?
Она была потрясена, когда осознала, что в ее жизни нет главного, на чем следовало сосредоточиться. Ее вырастили и выпустили в мир без компаса. А поскольку она со своей стороны ничего не предпринимала, чтобы поправить дело, ей оставалось плыть по волнам в полном смысле слова — в эмоциональном, духовном и интеллектуальном плане.
На следующий день после Рождества она улетела назад в Пендлтон. И была невероятно обрадована, обнаружив, что Раф ее ждет.
И сейчас он стоит рядом с ней на тротуаре неподалеку от ювелирного магазина Болла. Они только что совершили двадцать вторую кражу.
— Хорошо, — подытожил Раф. — Кому же из случайных счастливцев прохожих достанется наша добыча?
Лизл вглядывалась в лица проходящих мимо покупателей, для которых уже миновал рождественский бум, и тех, кому пришлось позаботиться об ответных подарках, потом перевела взгляд на золотую булавку с бабочкой, зажатую в ладони, несколько минут назад украденную с прилавка. Ее очаровывала тончайшая филигрань на крылышках.
— Никому, — проговорила она.
Раф повернулся к ней, подняв брови.