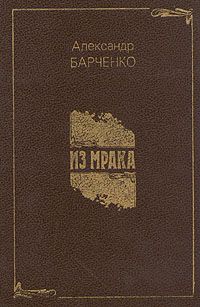Где он, что с ним?
Уснувшая память медленно ворочала тяжёлые, тусклые, расплывчатые, быстро ускользающие образы.
Машинально пошевелил рукой — прикосновение холодного камня вернуло к действительности.
На один миг ощущение острого, бесконечного ужаса — и сразу накрыло и притупило чувства сознание бесполезности сопротивления, невозможности борьбы, бесповоротности совершавшегося.
Он может кричать, биться в этом каменном мешке, в гробу, выбитом в толще скалы. Там, за твёрдой гранитной грудью толстой стены, услышат, быть может, глухие беспорядочные звуки. Люди с пергаментными лицами, спокойные и бесстрастные — разве они не привыкли к этим звукам? Разве в толще той же скалы не вырублен целый ряд таких же замурованных каменных гнёзд? Разве сам он месяц тому назад не убедился, что эти гробы обитаемы. Его водил тогда в подземелье человек, называющий себя именем доктора Чёрного.
Будь он проклят, этот человек, первый натолкнувший его на страшную мысль.
Вспыхнула в памяти картина: седые горбатые стены подземелья, чуть освещённого жёлтым бумажным фонарём, ряд отверстий в стене, под ними каменные выступы — полочки, как у скворечен.
Доктор Чёрный чуть слышно скребёт ногтем по выступу, и из отверстия робким, неуверенным движением вылезает что-то живое, серое; высохшая рука, затянутая в перчатку, минуту шарит на полке, висит в воздухе, всё время дрожит мелкой бессильной дрожью. И снова спряталась. Снова пустыми чёрными глазками глядят в коридор подземелья страшные каменные скворечни.
В его келье такое же отверстие. Где оно? Когда свет ещё проникал в скорлупу этого каменного яйца, он разглядел сток в одном из углов. В сводчатом потолке тоже чернело, должно быть вытяжная труба.
Он долго шарил по вогнутой боковой стене, отыскал маленькую круглую амбразуру, торопливо сунул в неё руку, сейчас он опять увидит свет. Пусть тусклый, неясный, жалкий свет фонаря, всё-таки лучше этой мёртвой, каменной, давящей темноты.
Рука встретила плотную, упругую заслонку. С силой надавил её, и заслонка раздалась сразу, пропустила кисть, скользким, мягко давящим кольцом охватила предплечье.
И в тот момент, когда пальцы ощутили свободу, разжались на воздухе, снаружи, мышцы плеча плотно закупорили изнутри отверстие наглухо. И мозг пронизала простая и страшная мысль: никогда в жизни он не увидит света.
Когда это было?
Сначала он считал дни по порциям риса.
Обострившийся слух чутко ловил царапанье каменной полки в ту минуту, когда на неё ставили чашечку с рисом, маленькую деревянную лакированную чашечку, вроде тех, что даются премиями в чайных магазинах. Быстро высовывал он руку в плотной перчатке. Пробовал высунуть голую руку, хоть этот клочок тела выкупать в жалком мерцающем свете фонаря. Цепко ухватился за чашку обнажёнными пальцами и тотчас почувствовал, как чашку настойчиво тянут назад. Отобрали… И жёсткая, невидимая ладонь выразительно погладила ему пальцы и кисть: дескать, надеть перчатку. Он надел и, снова высунув кисть, получил свою порцию беспрепятственно.
По этим порциям он пытался определять время.
В первые дни, может быть месяцы, ему, после риса, в такой же лакированной чашке давали жидкость, было похоже на слабый, но приторно пахнущий сладковатый чай.
Чашечку рису и чашечку жидкости он отмечал за день.
Но потом жидкость перестали давать, он сам больше не чувствовал жажды.
И промежутки между чашками варёного рису сразу разрослись для него до чудовищных размеров.
И тогда вспыхнула мысль: он ведь не знает наверное, сколько раз в сутки ему приносили пищу, он догадывался только.
Сначала могли приносить чаще, два раза в сутки, потом постепенно сократили до разу, стали давать, возможно, через день, через два.
А он всё так же царапал стену своими чёрточками — календарём, долбил осторожно при помощи крошечного осколка того же гранита. Осколок колол ему тело, когда в первый же день он пытался прилечь на каменном вогнутом полу. Тогда он с сердцем отшвырнул осколок. Зато потом, когда пришло в голову воспользоваться этим осколком, с каким ужасом шарил он по полу, дрожал при мысли, что осколок свалился в бездонный сток.
С какой любовью нащупывал он еле заметные бороздки, отсчитывал сутки, сбивался, начинал сызнова, говорил сам с собой, старался не упустить знакомых слов.
И только когда чёрточки потеряли значение, когда опустошило сердце сомнение в правильности счёта, тогда особенно ярко, понятно и близко ощутилась относительность, произвольность того, что привык называть временем. Было такое чувство, будто и позади и перед самым лицом, под ногами открылись бездонные чёрные пропасти, сдвигались ближе друг к другу, соприкоснулись вплотную и где-то внутри, в его теле, вошли одна в другую.
И с этой минуты словно открылась заслонка в мозгу, стало понятно, что два разных слова определяют одно и то же: «вечность» и… «никогда».
Он помирился с этим не сразу.
Ослабевшими пальцами отыскивал пульс на руке или на шее, считал сотни и тысячи, до пяти тысяч двухсот ударов и тогда загибал костлявый палец и считал в темноте новый час.
Скоро убедился, что напряжение мысли для счёта само повышает пульс.
К концу десятой тысячи артерия трепетала с такой быстротой, что не успевали оформиться в мозгу названия чисел.
И появилась одышка.
И перебои сердца разрушили систему счёта.
Покорился.
И сам, словно расплывшись в темноте без пространства и времени, отдался новой форме существования.
Понятие о пространстве исчезло также.
Он ощупывал стены, везде одинаково выгнутые, сводом исчезавшие в потолке, таким же сводом гладким, с неуловимой кривизной переходили в пол и с другой стороны снова поднимались в стену.
Напрасно отыскивал ощупью угол, резкую грань, какой-нибудь пункт, про который можно было бы сказать: «Вот начало», на который можно было бы опереться.
Даже края стока были сточены на нет…
И когда он начинал ощупывать гладко шлифованную поверхность стены, в голову протискивалась мысль, не ощупывает ли он пол. Сразу терял представление, где верх и где низ. Может быть, скорлупа каменного яйца вращается? При мысли об этом вращении вспыхивало особенно ярко представление о том, как покачнулся, начиная вращаться, чудовищный гранитный массив горы, в которой выбиты кельи.
И тогда начинала кружиться голова, страшная, обессиливающая тошнота подступала к горлу и, должно быть, надолго терялось сознание, если только можно назвать сознанием мутные контуры ощущений и образов без пространства и времени.
Было одно положение тела — положение «падма-азана». Он изучил эту странную позу ещё на воле, давно, под руководством того, кто называл себя доктором Черным.